Макарова Евдокия Константиновна
( 1907-1984 )
«ЕВДОКИЯ — ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА»
(Автобиография)
1971-й год, 25 июня.
Я живу на даче в Пери (под Ленинградом).
И решила описать свою автобиографию. Как прожила свою жизнь.
И что я запомнила за 60 лет.
1913 год.
Мой дедушка Михаил Тимофеевич Клюев проживал в Костромской области, Чухломский район, деревня Илюнино , Петровский сельсовет. Наша местность, удаленная от городов, и наши мужчины ездили в заработки в Москву и в Ленинград.
Мой дедушка жил в Москве у одного хозяина всю свою жизнь, работал маляром. Хозяина звали Андрей Андреевич Бахвалов. Он был очень богатый, имел три дома: два дома в Москве и один дом в деревне. Его очень хвалили. И мой отец Константин Михайлович тоже жил у Бахвалова и мой брат Иван Константинович жил у Бахвалова и учился в мальчиках на маляра. А мать жила в деревне крестьянкой, землю, скот держала.

Константин Михайлович Клюев (1883-1917), отец Евдокии.
Анна Сафоновна Клюева (Екимова) (1863-1923), бабушка Евдокии.
Фото из семейного архива Травниковой В.В.
Летом отец жил в Москве, а зимой все отходники приезжали домой и жили зиму дома и работали на себя. Кто дома строил, кто что. В 1910 году отец построил свой дом, дедушка его отделил. У дедушки была дочь Надежда Михайловна. Отжила в новом доме три года.
В 1913 году моя мать Елизавета Сергеевна утонула. Была осень, 13 октября, стало холодно и начали скот резать. Вот она зарезала баранов, сварила мяса и пошла кишки мыть. А нам сказала, что я сейчас вымою кишки и будем обедать. Она ушла в 9 часов утра, и мы все ждали, ждали, есть захотелось. Меня брат послал:- Иди за мамой, где она? Я побежала на реку, пробежала только барское гумно, барский сад (это так называлась, местность, где протекала река) и не нашла. А она утонула в маленьком бочажке у огорода барского сада и недалеко от дома. Я на то место и не подумала, так и не нашла. А вот почему брат не искал? Не знаю. Ему было 10 лет, а мне было 6 лет, сестре Пане было 3 года. И так мы были неевши. В три часа вечера пошел народ за коровами в поле и нашли ее. Вороны каркали и кишки по огороду растаскивали. Когда подошли поближе и увидели ее. Она лежала книзу лицом, а вся на берегу, только в воде были рука и нога. У нее, наверное, голова закружилась и она упала, а спасти было некому.
И вот бегут в деревню и кричат:- Елизавета Сергеевна утонула. Кричали:- Ванька, давай простынь, надо ее качать. Поехали за становым и за урядником, когда-то они приедут. А её стали качать, валенки с ног сняли, а она уже замерзла, было холодно, земля была замерзшая, и там ночь караулили. Домой ее привезли на второй день. Дали весть бабушке — моей матери мать. И вот я помню:- везут на телеге мать раздетую и волосы ветром дуло. А навстречу идет бабушка, горькими слезами уливается. А я была очень глупа, побежала встречать бабушку и села ей в телегу. Помню как делали гроб. Народу у нас было много. Помню в какие платья ее нарядили. Помню как из дома пополз домовой таракан прямо за порог. Все это видели и говорили, что хозяйство на перевод пойдет. Как приехал папа из Москвы, я не помню, а брат мне рассказывал, что папа очень плакал.
И в это же время стало пропадать мясо. Все ходили, всё тужили. А не несли напусто, а тащили спуста. Все было не заперто, все мясо лежало не рубленное и не посолёное, ведь только зарезано.
Когда хоронили мать, нас не взяли, кладбище далеко, восемь километров.
Отец в том же месяце женился. Взял вдову с ребенком, девочке было 5 лет, а мне было 6 лет. Звали ее Верения, и я все время забывала, как ее звать. Стала у нас семья четверо детей, отец и новая мать.
Бабушка моя говорила отцу: — Возьми девицу незамужнюю. Ну папа не послушал, взял вдову, он её знал, вместе гуляли. Тогда бабушка сказала, что берешь ты змею и со змеёнышем, твоим детям не будет жизни. Она свою дочь накормит, а твои будут голодные. А папа сказал, что у меня всем будет одинаковая жизнь.
1914 год.
Дедушка сманил папу жить к себе. Дочь он выдал замуж, а бабушка была параличная и дедушке стало жить тяжело. У дедушки дом был большой, больше нашего. У дедушки была мать жива, нам прабабушка и она молилася все ночи. У дедушки было много икон и у каждой иконы горели лампады. Вот помню, по субботам все ходили в баню, и помню, папа садится за стол, поправляет все лампады, наливает гарного масла и зажигает на всю ночь. А мы спали на полатях, жарко от лампад, светло, никак не уснуть. Слезем с палатей, да в кадку с водой, намоемся холодной водой и опять на палати.
Нас было четверо, а папа спал в пятистенке, им было неслышно нас. А эта прабабушка все молилась, а нам смешно было. И вот она на цыпочках тихонечко пройдет в пятистенок, да папе и нажалуется, что ребята мешают ей молиться. А мы слышим, как она пойдет, так мы все в угол заберемся и смех пропадает. Вот папа выходит, да как даст ремнем по брусу, так больше ни гу-гу, молчок.
Потом народилася еще девочка, звали Сима. Летом отец уезжал в Москву. Нас мать приучала к работе. Отцу надо было всех обуть и одеть, семья стала 10 человек. Летом стали сено загребать, жать серпом рожь и овес, скот собирать домой, за грибами ходить.
Вот я раз принесла много грибов, маслеников. У нас лес был рядом, грибов росло много. И мне мать сказала: «Иди, ангел мой, опять за грибами». Ну я от такой радости бежала, под собой ног не чувствовала, что меня мать так назвала — ангел мой. А потом я подумала, что она ошиблася. Она называла свою дочь ангелом, а не меня. Одно время я слыхала, она рассказывала соседям, что её дочь ничего не ест, а этим лешим хоть дров намели и все сожрут. Ну я досыта никогда не наедалася. Мать варила похлебку жидкую. Грибов наварит, гриб гриба догоняет. Брюква тоже жидкая. А хлеба даст маленький кусок. Вот и шмыгаем воду. У нас одни брюха были большие, а всегда есть хотелось. А работу мне давала не под силу. У нас колодец далеко от дома, и вот нальёт ушат воды, она сзади, а я спереди иду. А в ушат три и четыре ведра вливается воды. Я иду из стороны в сторону болтаюся, плечо мне режет, я обеими руками плечо держу над коромыслом. И у меня от тяжелой работы стало часто брюхо болеть, я оборвалася. Еще помню, жали овес, а меня мать послала ставить самовар, а они стали ставить снопы. Я пришла домой, поставила самовар, а сама так есть хочу, нет никаких сил. А у матери резаный хлеб всегда назаперти был, а целые хлебы были на залавке. Я от одного хлеба чуть-чуть отломила, с ягодину. И вот пришла мать домой и сразу проверка. Вот, лешая! Хлеба отломила, нет тебе обеда! Ну я тоже была натурная, не села за стол, а села у окошка и сижу. И вот в обед, на мое счастье, пришла бабушка Анна, моей мачехи мать. И говорит, что у вас Дуняшка-то не обедает. А мать отвечает: — Ну, ее к лешему, губа толще, так брюхо тоньше. А бабушка ей и говорит: — Линька, Линька, что ты делаешь, девка-то голодная, кто ее пожалеет, если ты не пожалеешь. Вот тут меня взяла обида и я заплакала. А так я никогда не плакала. Они обедали, а мне охлебки оставляли в каждой чашке. В деревне ели все из одной чашки. Так вот, какое было мне житье.
Когда отец приезжал из Москвы домой, то, конечно, лучше было. Помню, как он привез нам всем по ботинкам, мать сшила всем новые платья и как собирались с ним гулять. Он делал нам ледянки. На масляную катались с горы, гора была хорошая. Помню, говорит: — У меня дочки хорошие, ни у кого соплей нет, а вот у Гаврила все ребята сопленосые. А мы-то и давай все носы утирать, рады, что папа нас похвалил.
1915 год.
Помню я одно происшествие. Отец был дома, был Великий пост. Мясного не ели, а ели картофель с постным маслом. И нас собирались в Воскресенье причащать в церковь. Мать наварила вечером картофеля, начистила, помазала постным маслом. А папа, наверное, пошутил, он говорит:
— Ну, дочки, наедайтеся, завтра вам долго есть не дадут.
Вот мы сели и ели. И Верения, и Паня вылезли из-за стола, а я все еще ела. Да я бы и все доела. Вот мать и говорит папе:
— Выведи лешую из-за стола, обожрется.
Тогда папа сказал:
— Ну, дочка, вылезай и иди спать.
Потом мы перешли жить опять в свой дом. Дедушка разгорячился над папой и папа ушел, в чем я не помню. Так жизнь продолжалась. Моей матери мать, моя родная бабушка (Анна Андреевна) жила от нашей деревни километров десять. И она нас всегда возила в гости на два месяца. Как только лето отработаем, так она за нами и приезжала. С первого октября и гостим до декабря. У бабушки было много скота:- две коровы, нетель, овец всегда много. Семья большая, но питались сытно. Мяса в чашку накрошит много, каши наварит масляной, лапши наварит густой. Картофель в жиру плавал, и молоко с творогом. Все так было вкусно, и мы там поправлялися хорошо. А у бабушки семья была большая: дочь калекая, нога у ней была сломана (Парасковья), сын (Василий) и невестка. А у них было четверо детей, и дедушка. Всего девять человек. Да нас привезут. Вот какая семья и все ели досыта. Когда нас бабушка привезет, то мы были тихие, скромные. А как поживем неделю, да вторую и начинаем оживляться, хотелось побегать, побаловать. А тетушка была очень строгая. Как мы забегаем и она нас пугает: — Сейчас к мачехе увезу, если вы будете бегать. Вот мы и затихали, чтобы только не увезла нас домой.
1916 год.
Папа уезжал в Москву и увозил сына, моего братку (Ивана), с собой. Матери тоже было трудно жить в деревне, нас было четверо — я, Верения, Паня и Сима. Я старшая, с меня и спросу было больше. Матери надо печь истопить, и в поле ехать пахать, и сеять и боронить, все одна. Стала она меня учить боронить. Пока она сеет полосу, а я бороню. Но плохо получалось, я еще не смогла лошадью управлять, надо ехать краем, а она тянет дальше. Я приеду наконец поля, да пока заворачиваю обратно, так сама в вожжах и запутаюсь, того и гляди — сама под борону попаду. Вот яровое поле посеем, потом навоз возить, и опять пахота. А потом сенокос подойдет. А она все одна косила, а сено загребать нас с собой забирала. Запряжет лошадь, посадит меня и Вереню. Пока загребаем, конь стоит, сено ест. А потом накладывает воз, а я на возу стояла, не понимала куда класть сено. Мать скажет:
— Сюда клади, на край или на середину.
Конечно, все мне было не под силу. Мне был 9-й год. А когда сена навозим в гумно, то копны обделывали, загребали. А когда сено было готово, клали в сарай, таскали в сарай, если близко, а как подальше, то на носилках, одна сзади, другая спереди. И опять я. А Верения на год меня моложе была. Да я не знаю, моложе или нет, были ростом ровные. А я за старшую в работе отвечала. Кончится сенокос, начинается жнива, рожь надо жать, ячмень и овес и все серпом. Спина так болела, не наклониться. Вот какая была жизнь. Мне бы только бы помереть в то время и плакущих по мне бы не было, а только бы перекрестились, что Господь прибрал сироту и не мается. А я никогда и не хворала, не знала как болеют, кроме живота.
Ещё помню, как меня мать послала в лес кошку убить. Не помню, сколько лет было, восемь или девять. Я взяла кошку, посадила ее в мешок и пошла в лес, там вынула ее из мешка и давай об сосну бить головой. У кошки изо рта потекла кровь. Я испугалась, положила ее под сосенку и думала, что убила, она лежала, не шевелилась. Я заваляла ее лапками и пошла домой. Подхожу к дому, а кошка сидит на крыльце. Ну второй раз я не смогла ее, нести, боялась. Да все равно, мне ее было не убить,силы было мало.
Помню разговор, а не знаю в каком году, папа в Москве красил церковь и оборвалась люлька, он упал крепко, отбил в себе все и сердце. Стал очень болеть, стал полнеть от сердца и приехал домой. Дома он работал бондарём, делал кадки, ушаты. Помню его работу: навозит из леса деревьев, напилит, наколет и в избу сушить на печке. Из сухого дерева строгал доски и делал посуду и потом покрасит. У нас в доме все было крашено. Помню стол, был красиво раскрашен, и кадки, и шайки в бане, все было крашеное. Братка и дедушка жили в Москве, когда папа жил в деревне.
1917 год.
1-ого августа 1917 года папа умер одночасно. Пошли косить на пустошь далеко от дома, где-то в лесу был покос. Пошла вся деревня, погода была плохая, шел дождь, папа взял с собой зонтик. А когда собирались косить, то поскандалили. Мать меня посылала боронить, а папа сказал:
— Не надо посылать, я сам забороню, сушки то нет, все дождь.
Мать ему ответила:
— Посади её на тебло, да богу и молись.
И папа пошел расстроенный, а ему врачи не велели расстраиваться, и тяжелого подымать было нельзя. А косить тоже нелегко. Они ушли , дождь стал переставать, и я пошла за лошадью, лошадь было не поймать, не давалася, кусалась и легалась. Я взяла лукошко с овсом и маню: — «Пцо, Любка». А она-то овса хочет, а даваться в руки не хочет. Бежит ко мне, уши приложит, думаю сейчас голову откусит. А нет, схватит смаху овес и бежать. Я опять ее маню. Вот она и подойдет снова к овсу. Я ее за челку схвачу, да скорей узду одеваю. Ну, теперь моя, подведу, ее к пеньку высокому, залезу на пенёк, а с пенька на лошадь. Я не боялась верхом ездить, даже в наскок. Привела домой лошадь и только стали собираться боронить, и бежит тетя, папина двоюродная сестра. И говорит:
— Лошадь дома?
Я сказала:
— Дома.
— Запрягайте в телегу, я поеду за фельдшером, батька ваш — заболел.
И уехала, не сказала, что умер. Мы с Вереней сели на стол, а ноги на лавку и рассуждаем — кому кого жаль. Вереня говорит: «Мне жаль маму», а я не смела сказать, что мне жаль папу, я сказала: «Обоих жаль». Только проговорили, а папу то и везут на телеге, и мать плачет. Я побежала встречать. Ну, я по папе очень плакала. Я уже была большая, был мне десятый год. А по матери я не плакала, была мала. Папу я ездила хоронить. И вот наша лошадь мать с реки везла на кладбище, а папу с покоса и тоже на кладбище.
Приехал братка хоронить отца из Москвы и дедушка. Начали выбирать опекуна над нами. Нас хотел дедушка взять, Михаил Тимофеевич. Ну, братка сказал: «Я с дедушкой не пойду, а пойду с матерью». Ну мы то малы были, нас не спрашивали. А дедушка на братку обозлел.
Матери стало жить тяжело. Она наняла Паню, сестру, в няньки в своей деревне. Ей было семь лет, она с 1910 года. Маленькая Сима умерла вскоре, после папы. Меня мать наняла в легкие работницы, по дому пол подмести, посуду помыть, скотину застать, на дворе послать, крапивы нарвать, воды наносить и дров. А братке сказала: «Иди в пастухи». А он сказал: «В пастухи не пойду, я три года прожил в мальчиках у хозяина, найду работу без пастухов».
1917-й год был голодный, градом хлеб выбило. О том, что меня наняли в легкие работницы узнала моя бабушка Анна Андреевна, моей матери мать, и приехала к нам. Я была в лесу, пилила дрова с тетушкой. Бабушка спросила: «Где они пилят?». Вереия показала дорогу. И вот она шла по дороге и кричала: «Ау, Ау». Мы, когда пилили, то не слышно было, а когда кончили пилить то услышали, кто-то кричит. Мы ей откликнулись. Тогда бабушка подошла и говорит: «Что вы, безбожники, не боитесь бога, хотите ребенка надсодить и совсем обезживотить. Одна кровопивка наняла, а вторая нанимала». И пошли домой. Как раз был обед. Пришли домой и мать была дома на обеде. Бабушка сказала: «Я беру внучку в дочери, дай Лизаветушка, чего-нибудь после матери». А мать ответила: «Одну берешь, ничего не дам, бери обоих, все отдам». Вот так меня бабушка и увезла в чем я стояла. А пальто она с собой привезла в чем меня вести. Когда привезла домой, то дедушка, Сергей Иванович, сказал, что собирается ехать в Сибирь за хлебом, привезет и после этого возьмут другую (Паню).
Первого октября меня бабушка повела в школу, но меня не брали, сказали, что уже много отучились. Ну бабушка стала просить, что она все буквы знает мол. Тогда меня взяла учительница и посадила за парту с поповой дочерью и с писаревой, и спросила меня почитать. А я букварь-то весь наизусть знала. Ей прочитала хорошо. Я отучилася один месяц и вдруг революция. Я не знала и не понимала, что такое революция. А запомнилось мне то, что приходим в школу, а у самой-то школы было правление, и писарь поджог это правление, а сам скрылся.
А потом памятник сняли, царь стоял. А золотая корона долго стояла. Икону из школы вынесли, поставили елку. Ходил к нам поп, преподавал закон божий. И попу отказали, чтоб больше не учил. И вот я доучилась до Нового года, нас распустили на каникулы. И бабушка меня больше в школу не отдала. Всему стала перемена. Да мне-то и не хотелось ходить, было стыдно, зимой-то хоть валенках, а осенью меня бабушка обула в свои сапоги кожаные, а на сапоги-то лапти, чтобы сапоги не изорвать. Меня взяли к себе жить, а семья-то была большая: бабушка, дедушка, тетя калекая (нога была сломана), невестка, сын и четверо детей у сына. Я была десятая. А хлеба мало было, всю рожь градом выбило.
Дядю Васю, сына бабушки, взяли на фронт. Дедушка поехал за хлебом в Сибирь. А время-то пошло такое мятежное. Сколь стало врагов.
Кулаков стали зорить, а кулаки стали вредить. Что творилось!
И вот, когда дедушка уехал, то не доезжая до станции Шарья, за Вяткой, сейчас город Киров, поезд с поездом столкнулись, очень много погибло пятьсот человек клали в одну могилу. И наш дедушка погиб и не привёз хлеба.

сидят- Сергей Иванович Иванов (Власов), дедушка Евдокии по матери и Александр Иванович Власов, племянник дедушки.
стоят- Николай Иванович Власов и Михаил Иванович Власов,
племянники дедушки.
Фото из семейного архива Травниковой В.В.
1918 год.
Началась голодовка. Стали есть мякину, колоколец ото льна, толкли в ступе и прибавляли в хлеба. Овсяные пелы тоже толкли. Сушили пелы в печке и сухая мякина хорошо толклась. Голодовка пошла повсеместная. Сколь стало нищих, начался грабеж по ночам. Ездить стало страшно, выходили из леса и обирали всё, что везешь. Много стало дезертиров, скрывались, чтобы на войну не идти. В магазинах ничего не стало: соли, мыла, спичек, керосина, дегтя. За солью ездили за семьдесят верст, соленой воды в кадках надо привезти. Везут, везут, да сани-то на размахе занесет и кадка опрокинется. Без мыла-то можно было жить, щелок делали. А вместо спичек, добывали камни. Камень об камень колотили и искры летели, вата и зажигалась. А керосину нет, то рубили березу. Напилим поленьев да насушим и щипали лучину. Сделали из железок три рожка, называли святец. Лучину воткнем в этот святец, а рядом корыто с водой. Как лучина сгорит, так от этой лучины вторую зажигали. На посиделки ходили, все стали пряхами. Лён пряли, ситцу не стало нигде. Все носили холщевину. Я три сарафана износила холщовых. Безо всего можно было жить, но без соли никак.
У бабушки, был большой запас соли, и та кончилась, дак из под соли корыта рубили, щепки в суп клали и суп был соленый. Много росло грибов, ну брали те, которые жарить, да сушить, а солянки не брали.
После революции, Ленин-то дал людям свободу. Начали все лес рубить, который никто не смел и кола срубить. А тут стали хозяева крестьяне. Столь нарубили много. Лес вывезли, а сучья сожгли, да насеяли по огнищу-то пшеницы. И такая была пшеница, солома была выше человека. И хлеба стало у всех много.
Хочу описать рассказ, что слышала от своей бабушки, когда она взяла меня жить от мачехи. Я любила ее слушать. Она рассказывала о себе, о своей матери и о дедушке. У нее был дедушка Даниил Игнатьевич. Он был краденый. Его барин привез из Польши. Было такое время, барщина. У барина работали крепостные. И вот барии поехал в Польшу. На ямщине приехал в деревню, а на поле играли дети в возрасте от 10 до 13 лет. И их барин угостил конфетами и пряниками.
И сказал, что садитесь, я вас покатаю. Ребята сели, он их закрыл в карете и повез их на ямщине. А что за слово ямщина, это когда на большой дороге строили дома и держали много коней. Железной дороги не было от нас, где мы жили. И вот эта ямщина ездила с определенного места кордона до кордона. Проедут пятьдесят верст и обратно, а следующие поедут дальше. Вот барин привез 12 мальчиков к себе, стал кормить, учить грамоте. Из них, кто на что был способный. Кто пахал поле, кто торговал в лавке, по сейчасному в магазине. А наш дедушка был грамотный и умный. Он работал приказчиком. У него стало много знакомств.
Шли годы, власть менялась, и вот вышел приказ — освободить крестьян от барина. И дедушка поехал в уезд (сейчас район). Охлопотал документы, чтобы его барин отпустил на волю. Ну барину не хотелось его отпустить. Он думал, одного отпущу, а за ним и все пойдут. Тогда дедушка ушел от барина, ну его нашли и барин его наказал, ну чем, я этого не помню. Ну дедушка Данил Игнатьевич опять ушел от барина и устроился за три километра от барина. А барин опять послал своих рабочих, чтобы найти его и его нашли. И говорят: «Нам то тебя и надо». Но там, у кого был дедушка, хозяин был богатый. Он да всех пригласил за стол и стал угощать вином и водкой. Ну те сказали, что если Данил Игнатьевич будет пить, то и мы выпьем. А если не будет, то и мы не будем. И дедушка пил с ними наравне, ну что-то проглотит, а остальное в платок да в карман. А хозяин-то дома коней, запряг и пальто вынес на повить. Когда все стали пьяные, тогда дедушка вышел, как будто прохладиться. А сам сел в сани, да опять в уезд. А там опять барину приказ, чтобы освободить Даниила Игнатьевича. И тогда барину нечего было делать, был закон об освобождении. Остальные поляки так и доживали до старости у барина. А дедушка ушёл на белую улицу, ему уже было тридцать лет. И он нашел старика. Этот старичок взял его в сыновья и подписал ему двенадцать десятин земли и сказал, что после смерти остальное. А старичок умер одночасно и не успел подписать. И дедушка Данил Игнатьевич так и стал жить. Женился, у него была одна дочь Екатерина Даниловна. Теперь, как называюсь деревни: барин, который украл дедушку, жил в деревне Левино, и сейчас она существует. Где жил богач, откуда пришлось бежать, деревня Капустино. А старичок, к которому пристал в дом, жил в деревне Крусаново.
Опишу о дочери Катерине Даниловне. У нее было три дочери, а мужа звали Андрей Иванович. Моей бабушке было три года, когда отец пошел на войну. Андрей Иванович провоевал пятнадцать лет и дома не был. По три года не было писем. И бабушке Катерине Даниловне жилось тяжело. Земли было мало и она нанимала своих дочерей. Одну в няньки, а другую в работницы. Потом старшую выдала за богатого. А богатые над бедными издевались. А вторую дочь так и не выдала, её всю простудили чужие люди. Старшая дочь умерла молодая, её звали Марья Андреевна, вторую звали Анастасия Андреевна. А моя бабушка — Анна Андреевна. Она моложе была на десять лет бабушки Настасьи.
Вот кончилась война и дедушка Андрей вернулся с войны. И он рассказывал, что было в полку четыре тысячи солдат и четыре раза полк добавляли, и осталось восемьдесят человек. Воевал где-то у соленого моря под Севастополем. Им давали в день одну кружку воды и два фунта хлеба и жили.
Когда к моей бабушке стали свататься женихи, то дедушка не отдавал за богатого. Он сказал, что отдам дочь за солдата, старшую загнали в могилу. Так и сделал, отдал дочку за солдата. Вот власть опять сменилась. Службу пятнадцать лет отменили, а стала пять лет, а морякам семь лет. Мой дедушка, муж Анны Андреевны, стал Сергей Иванович Иванов, он был второй сын в семье.
Теперь мой рассказ, по родству дедушки, Сергея Ивановича.
У моего дедушки был дед богатый, звали его бурмистр. А что за слово бурмистр, я и сама не знаю. Ну он очень богат был. Четыре прихода были все его леса и покосы. К нему приходили просить лесу на дом или покоса. И ходили к нему работать, за это по два дня в неделю. Звали его Милентий Иванович. У него было три сына и он не любил одну невестку Екатерину. А почему? Она была справедливая и всегда говорила правду. А пословица старинная: «Не говори правду, не теряй дружбу, правду сказал, дружбу потерял». И вот бабушка Катерина была у свекра всё под извозом. Только приедет из-под извоза, эти кони отдыхают, а она вторых запрягает. В уездный город Чухлому за тридцать верст (сейчас районный город) она возила то бочку рыбы, то бочку вина. А у них каждый день всё работали чужие люди заделья. И вот тоже самое, сменился царь, назывался освободитель. И тогда поставили церковь, назвали эту церковь Троица Слободка. Сделали миряне собрание и богомоление, чтобы крестьян освободить от помещиков.
Вот пришел Милентий Иванович, сел за стол пуговицы горят как золотые. Зачитали закон и сказали — подписывайтесь. А все боялись, как против такого богача подписаться. А наша бабушка Катерина, его невестка пошла первая и подписалась, а за ней и все пошли. И все удивлялися, что такого богача невестка пошла против свекра. А он только глаза перекосил на невестку. А когда пришёл домой, сразу же отделил невестку и сына — Ивана Милентьевича, отца моего деда — Сергея Ивановича. Дал им подизбицу, где скот стоял: телята, овцы ягнилися, поросята маленькие стояли и отсоединил от дома. А у него было четыре избы и двое сеней, дом крашеный. И все богатство он отдал сыну Дмитрию Милентьевичу. У Милентия Ивановича была фамилия Власов, а мой дедушка, когда пошёл в солдаты, то сменил фамилию и стал Иванов Сергей Иванович. И вот эта фамилия еще существует в роду. Живёт на Софье Ковалевской внук моего дедушки Иванов Иван Васильевич. У дедушки был первый сын Василий Сергеевич, а моя матъ Елизавета Сергеевна.
И что вы скажите? Столько лет прошло, а золото и сейчас живёт и зовут их Богачевы. Правнуки и праправнуки и все в золоте одеты. А уже сколько поколений. Первый корень — Милентий. Второй — Дмитрий Милентьевич. Третий — дочь Татьяна Дмитриевна. Четвертый — у Татьяны сейчас две дочери Елизавета и Анна. Им сейчас по 82 и 83 года. Пятый — у Анны дочь тоже Анна, 63 года. У этой Анны дочь Нина, 45 лет. У Нины две дочери Люда и Таня. То есть, шестое и седьмое колено, а золото всё переходит и сейчас.
Ещё бабушка рассказывала: Когда Милентий умер, стал хозяином сын Дмитрий Милентьевич и он заведовал все же и пустошами и лесами, только в заделье отменили работать. Раз ехал из уезда Дмитрий Милентьевич и услышал стук в лесу, там мужики рубили лес. Он свернул с дороги и в лес. И увидел, что его лес рубят, он же хозяин. И вот тогда мужики его связали и привязали его к тарантасу (это богатая карета, была только у богачей) и спустили его в омут. Ну а конь был очень большой и сильный и он выплыл из омута, и привез его домой, а потом и сдох. А Дмитрий Милентьевич с ума сошел и был дураком до смерти.
Продолжу 1918 год. Я опишу о своей деревне Бошкадино, где я жила у бабушки. Все стали сытые, а ситцу долго не было, с 1917 по 1923 год. Перешивали сарафаны. Раньше носили в пять полос сарафаны, а стали шить в три полосы, а из двух полос еще выходило платье или кофта. Власть часто менялась, менялись и деньги. Начали скот переписывать, налоги накладывать. Стали выбирать комитет, потом бедноту. У бабушки хозяйство было большое: два коня, две коровы, нетель и овец много держали и кур. Вот переписали скот и нам приказали вести овцу и мы свезли. В школу я больше не ходила, так и осталася, как отучилась три месяца. Бабушка стала приучать меня к труду, вышивать, кружева вязать. По зимам и прясть училась. Я с пряхой на беседки ходила. Ну я плохо пряла и не научилась и желания не было на эту работу. А шить — это был задор до самой старости. Вот в конце 1818 года только стали хлеб чистый кушать, пошла болезнь тиф, испанка.
Стало много умирать по слышкам. Ну в нашей деревне не было тифа, пока никто не болел. Ну вот бабушкина невестка ходила проведать своего больного брата в деревню Ильино за восемь километров и заболела. А тиф был заразный.
1919 год.
Заболела, бабушкина невестка и дочка и внучка. Лежали влёжку. Тетушка месяц болела, а невестка две недели была без сознания и умерла. Вскоре умерла девочка, внучка бабушкина. Когда умерла невестка, то бабушка пошла искать копальщика, могилу копать, а тетушка поехала в район, ещё повезла овцу — наложили вести. А хозяевами стала беднота. Я была одна дома. Мне был 13-й год. И вот пришли к нам беднота, уполномоченный, комиссар и председатель. Стучат и слышу: «Открой дверь», а я не открываю. У нас всегда дом был на заперти (дом был с краю деревни). Кричит бедняк: «Открывай, а то дверь будем ломать». А я кричу: «Вы грабители пришли, не открою». И не открыла. Ну в деревне знали, сколь у нас скота и наложили еще вести корову. Как похоронила бабушка невестку и повели корову государству. И двух овец свезли. И у кого было две коровы, все повели сдавать. А у кого было две коровы? Кто больше работал. А беднота побольше спала. А тут стали на чужую кучу глаза пучить. А мы рано вставали и хлеб добывали и виноваты стали. Всё и подай. Потом слышим разговор, что беднота пойдет по амбарам и будут хлеб перемеривать и оставлять один пуд хлеба на месяц на едока. А у нас осталось пять человек семья: бабушка, тетушка, я и сыновнины сын и дочь, бабушкины внучата. Внук с 1903 года, а внучка с 1914 года.
Получила бабушка похоронку от сына — сын погиб геройски на фронте. Получилось так — в одном сорокоусте: сын и невестка. Я не знаю, какого числа, а знаю, месяц март 1919 года.
И вот мы стали прятать хлеб. В сарае сено отрывали от зада, да втащили ларь большой, пудов на тридцать. И всё по ночам хлеб туда сыпали и опять сеном заваляли. Ну было надежно, не отсыреет. Потом такой же ларь поставили в дрова. У нас дров было около дома, по двенадцать поленниц стояло. Вот мы в середине выбрали поленницу, поставили туда ларь и насыпали хлеба и закрыли берестой три раза, чтобы дождь не пролил. И заклали опять дрова, стало незаметно. А муку только воз привезли с мельницы. Тот перетаскали в пруд, там снегу было много, сделали яму и положили мешки туда и зарыли снегом. А рядом прорубь была, где брали воду и незаметно. Никто и не подумал, что там хлеб лежит. Это был апрель месяц 1919 года.
Вот вскоре и пошла беднота по амбарам. Самые-то лодыри, их за людей не считали. Они сами себя в порядок не приводили, у них в голове и в рубашках вшей было полно. Мы щелок делали, да головы мыли, да белье кипятили. Ну вшей не разводили. А мыла-то ни у кого не было. Пришли в амбар и стали отмерять сколь на еду до нового урожая, сколь надо земли обсеять. Остальное отобрать. Не помню, сколько отобрали. Ну к нам на два воза подогнали коней, наклали и повезли. Бабушка плакала и называла не беднотой, а еботой, тех, кто не работал. Также обрали племянницу бабушкину. У неё тоже было всего много, она тоже труженица была. У неё мужа тоже поездом зарезало вместе с моим дедушкой. И осталась она вдовой. Ей было 26 лет и осталось четверо детей — четыре парня: Коля 1907 года, Саша с 1910 года, Минька с 1913 года, Володя с 1919 года и бабушка, её мать. У нее тоже отобрали корову, двух овец и хлеба, только не знаю сколько пудов, но тоже лошади у амбара стояли. А я почему знаю? У нас одно родство и рядом амбары стояли и сараи.
Вообще, хочу сказать, что кто был лодырь, у него никогда ничего не было. А им дали власть. Была такая песня сложена:
«Раньше Митька Седунов шарил по карманам,
А теперь стал в сельсовете главным комиссаром.»
Такой был пёс. Бабушка с ним еще поспорила, что ты мол не работаешь, а глядишь где бы отобрать. Тогда он еще больше обозлел. Стал еще накладать на бабушку хлеба, чтобы ещё везли. Наш хлеб искали, но не нашли. Примерно было спрятано пудов шестьдесят или пятьдесят. Нам хватило дожить. Власть нам оставила по пуду. А ведь скот был, овечки ягнилися, надо им посыпать мучки. С воды-то не выпустишь скот со двора, валяться будут. И курочкам тоже надо было. Была у нас также спрятана сбруя на чердаке. Там лён лежал. Когда вырыли сбрую, а её крысы изъели, время было голодное. Жизнь продолжалась. Стало у всех по одной корове и по две овцы. Стали подходить жить одинаково. Как беднота говорила: «У меня взять нечего, одна корова и одна овца». Так и все стали держаться. И довели жизнь до нищеты. В 1920, 1921 и 1922 годах так и жили. Брюхо сыто, тело прикрыто. Война шла, ничего не было. Лошадей на войну взяли. У кого был хороший конь, тому на обмен давали клячу.
1920 год.
Я стала уже взрослая. Мне уже шёл 14-й год. Бабушка меня под плуг поставила. Пахать и боронить некому было. А внука она (Ивана Васильевича) проводила в Питер. Мне стало очень тяжело- и косить и жать, и молотить, и по дорогам ездить. Вот внук пишет бабушке: «Пришли мне сухарей, очень голодно, работы нет. Мы посылали ему сухарей, а сколь раз не помню. Вот бабушка написала письмо внуку: «Раз плохо в Питере, то приезжай домой». И он сразу же приехал. Он жил в Питере немного не больше, как полгода. Вот я с ним и работала вместе, и косила и жала, и бабушка с нами. А кока (тетушку так звали) дома стряпала. И опять мы всего наработали, грибов и ягод наносили.
А мой родной брат (Иван Константинович) как от мачехи уехал в Сибирь, и домой не приезжал всю войну. Взял он адрес дядя Васи и поехал к нему. Стал проситься, чтобы дядя Вася взял его с собой служить в Красную армию. Ну дядя Вася его не взял, дал ему денег 5 рублей и сказал, поезжай домой. Тебе нечего здесь делать. Ну брат мой домой не поехал. И все-таки поступил в Красную армию добровольцем и отслужил три года. Когда он записался в Красную армию, ему не было 15 лет. А когда кончилась война, он пришел домой, ему было 18 лет. А когда стали призывать его на службу по возрасту, то его уже не взяли, он отслужил досрочно.
А сестра моя, Паня, так и жила всё по нянькам, с 1917 по 1924 год. А потом ее взяли в дочери в деревню Агинкино. В семье детей не было, и они захотели взять дочь. Паня пошла, ей очень надоело жить по нянькам. Всё было хорошо до 1927 года. А в 1927 году её хозяина посадили в тюрьму. Он изнасиловал девочку в Питере, ему дали три года. Хозяйка начала над Паней издеваться. Тогда мачеха наша взяла её к себе. Мачеха свою дочь выдала замуж за хорошего парня, осталась одна и взяла Паню к себе. Жила, она у мачехи до 1930 года, покуда не выдала замуж.
А брат пришёл с войны и тоже к мачехе. Привез он ей с фронта пуд муки белой и пуд соли. А соль такая была дорогая. Один фунт соли стоял тысячу рублей. Это был 1921 или 1922 год. А женился он в 1923 году и уехал в Питер, жизнь в Питере стала налаживаться.
А я так и жила и работала у бабушки. Конечно, тётушке не хотелось в дочери брать, а бабушка меня жалела. Я была её крестница, да и внучка. Она меня всё лечила. Я помню пила какой-то майский бальзам. Я была надсажена и простужена, у меня коросты были на голове. Когда меня взяли жить, то свои сарафаны бабушка на меня перешивала. У нее было очень много платков, и она мне каждый год дарила по платку на день рождения.
Помню, в 1920 году стали песни петь про Советскую власть:
Сидит Ленин на воротах держит серп и молоток,
А товарищ его, Троцкий, держит старый лопоток.
Троцкий в лес пошел за лыком, Ленин лапотки плетет,
Красну армию обует, на позицию пошлёт.
Сапоги на мне худые, это Ленин подарил,
При царе, при Николае в лакированных ходил.
При царе, при Николае, ели мы свинину,
А Советская власть выдаёт конину.
Николашка был дурак, ели ситный за пятак,
А Советская-то власть до мякины добралась.
Говорят, что Ленин умер, я вчера его видал,
Без парток в одной рубашке пятилетку догонял.
Вот и пасха, вот кулич, чум-чера-чура-ра,
Вот и:помер наш Ильич, ишты — ага.
Комсомол купил свечу, чум-чера-чура-ра,
И поставил Ильичу, ишты-ага.
Ты гори, гори свеча, чум-чера-чура-ра,
На могиле Ильича, ишты-ага.
А когда пошли колхозы, то и песни пошли другие.
Так я и жила у бабушки. Много было работы, ну ели досыта. Мяса у нас было много. А вот пословица говорится: «Как волка не корми, а он всё в лес бежит. Так и я, жила у бабушки, а в гости к мачехе ходила, скучала по сёстрам. Ведь прожила с мачехой четыре года, а детство помнится. И мать-мачеха тоже ездила к бабушке. А что была плохая, стало всё забываться. А далеко было ходить от бабушки до мачехи, километров десять от Илюнино до Вашкадино, и всё дремучим лесом. Там водилось много зверей: волки, медведи, зайцы, лисицы. Бывало бежишь одна таким-то лесом и кричишь: : «Ау- Ау!». А то кричала: «Дядя Вася! Догоняй, пошли скорей!». А никого нет, я одна бегу. Ну на медведя не налетала, а на волка два раза. Только в поле раз вышла, а там овцы ходили. А волк-то в стаде овец режет. Я бежала и кричала: «Уси-уси-уси». Этот знак люди понимали. И бежали на помощь. Ну я была очень смелая. Другой бы парень не пошел один.
Еще хочу описать. Когда бабушка меня взяла жить, то мне не на чем было спать. Для меня не было кровати. Я спала на полу, бабушка мне связала рогожу из соломы и пастилу домотканую. А окутывалась старой шубой, одеяла не было. А когда холодно было, то я спала на печке.
Бабушка стала приучать меня драть бересту и плести лапти. Сапог-то не было, все ходили в лаптях.
Жизнь продолжалась тяжёлая. Налогами задавили, и деньгами и хлебом. У бабушки земля была большая, нам стало всю землю по обработать. А налог-то брали с земли. Тогда собралась вся деревня и пошли все к попу, чтобы написал заявление насчет земли — лишнюю землю сдать. Поп написал заявление и с нас сняли душу, а у нас было четыре души или сказать четыре надела. И вот тогда все пошли косить к попу по дню, за то, что он нам помог, мне тогда было тринадцать лет. Ну а косила я хлестко. Надо мной только все удивлялись. Когда поп увидел мою бабушку и спросил: «Анна Андреевна, сколь твоей внучке лет?». То был удивлен. Мои прокосы были одни из лучших.
Лето работали, а зимой отдыхали. И пошла мода в карты играть, в 21 очко, все играли, и стар и мал, ребята и девчёнки. И я участвовала в этой игре и я очень выигрывала. Сперва играли, ещё Николаевские деньги ходили, а потом керенские. Когда керенки лопнули, пошли орлы с двумя головами. И такие пошли дешёвые — тысячи да миллионы. Я наиграла пятьдесят тысяч. Ну все и лопнули потом. Не знаю, меняли их или нет. Когда я вышла замуж, то избу оклеила деньгами. Обоев не было и газет тоже.
Все стали жить бедно, надоело платить лишние налоги, доматывали хозяйство вся деревня, а вся беднота была в славе.
Еще вспомнила, про 21 очко. Играли в две компании. Одна девочки, играли на рубли, а ребята на десятки и я с ними. И ходила всегда на всё, сколько бы в банке не стояло, и все выигрывала. На меня злились. Бывало, надо было домой идти, ну всегда уходила от своего банка.
Когда в 1924 году вороны лопнули и стали деньги очень дорогие, все стало дешево, а денег не было. Метр ситца стоил 30 копеек, а зарабатывали в день по рублю. Это я запомнила. Нас гоняли в лес сучья убирать и жечь, и помню, что нам заплатили один рубль на день. В 1926 году в день моей свадьбы, меня обокрали. Украли кошелек с деньгами, что мне надарили, все украли. И получилось так, сяду играть на деньги, всё проиграю. Стану яйца катать, тоже всё прокатаю. И я бросила играть и катать. И вся жизнь прошла моя всё из руки. Только разживусь, и что-нибудь стрясется, то пожары, а то и хуже.
1921, 1922, 1923, 1924 годы.
Ни кулаков, ни середняков не стало. Остались все бедняки. Все сарафаны за эти годы перешили и износили. Когда наряжались, девочки в беседе были плохо одеты. На барахолке меняли на хлеб платья и одежду. Кому надо хлеба, а кому наряда. Деньги были ни к чему, всё было на хлеб. Помню, мне купили ситцу два метра на кофту, отдали пуд овса, и железную гребенку за десять фунтов хлеба. Гребенок костяных не было, а делали железные. Такая белая жесть, как самолеты легкая. На хлеб шли кадки, ведра, горшки. Всё на хлеб, а не на деньги.
В 1922 году бабушка проводила внука опять в Питер. Стало в Питере налаживаться. Стала работа, а то всё была безработица. Он уехал и не приезжал домой долго, до 1929 года. Я так и работала. Ну питались мы сытно. Бывало, пашу, а мне бабушка несет перехватку. Напечет кока лепешек, все в масле плавают. И яичек наварит. Можно было жить.
Стали приходить с фронта мужики, кто жив остался. А большинство погибли на фронте. В двух деревнях ни один не вернулся с фронта, все остались вдовые. Ну а у нас в деревне пришли четыре мужика. Ну двое скоро умерли, а два долго жили. Война кончилась, больше скот не обирали. Только денежный налог платили. Стали опять заводить скот. У нас опять стало две коровы и овец можно было пускать сколь хочешь только бы прокормить.
А моя бабушка была очень хорошая работница, старательная и всегда любила делать хорошо. И меня к тому же приучала. Стала жизнь лучше. Стал появляться в магазинах ситец, сахар, мыло, спички, соль, керосин, деготь. Пошла вольная торговля. Скота стали пускать больше. У нас опять стало две коровы, нетель, лошадь, жеребёнок, овец много, кур. И опять зажили хорошо, а уже стала взрослая и работать приучена. Все только дивились, как я косила и пахала. Не поддавалась никому в прокосах. Встану, никто из прокоса не выставит.
Я стала наряжаться в беседу. Купили мне два платья сатиновых, а обувь, не помню, была или нет в магазинах. Ну мне сшили из кожаных сапог, из голенищев, ботинки. Я в них и замуж вышла. А до этих ботинок я одевала бабушкины башмаки с резинками по бокам. Да сарафан одену под самые пазухи. А на талии поясом подпояшусь. Кофту одену, да и в беседу. Охота было потанцевать. Танцевала я очень легко. Ну, я на тётушку обижена. У нее наряда было много и хорошего. Ну ничего не давала, а только бабушкины сарафаны старушечьи. А у коки была такая кофта, летняя красивая, изо всего прихода. Придет, бывало, в церковь, встанет впереди, да и молится. А я в бабушкиной. А кто на её смотрел? Никто, раз калекая. Конечно, сирота, есть сирота. У кого матери, так те старались свою дочь нарядить как бы получше. Я раз спросила Коку: «Отдай мне платье шерстяное». Нюша Богачева перешивала платья тоже шерстяные и цвет бардовый. Я с ней рядом сидела в беседе, и хотелось иметь одинаковое. А Кока мне ответила: «Вот те, сволочь, чего захотела! Тетка платье отдай! Выкормили, выпоили, а теперь наряду просит. Да я помру, в гроб положу, а тебе не дам». Потом, еще раз было. Спросила: «Кока, дай мне пять пудов хлеба». Тётя Лиза Богачёва продавала свое платье. У нее было четыре парня, ей надо было ребятам парток купить. А Кока тоже не дала. А ведь кто наработал хлеба? Вся моя была работа тяжелая. А мне уже 16 лет, хотелось одеться.
1925 год.
Ко мне стали свататься женихи. Бабушка отказывала до году. Во-первых, молода, да и работать некому. Во-вторых, свадьбу делать не на что. Я была, конечно, молода. Ну от такой бы тетушки ушла.
У нас была лошадь, жеребёнок два года и жеребенок год. И вот тот, которому было два года, его продали за двести рублей. Деньги уже были дорогие, миллионы уже лопнули. И вот купили мне на два платья выработки, ситцу на одеяло и коленкору на подкладку. И бабушка всё берегла отрез шерсти на платье. Я сшила платье шерстяное на Казанскую (21 июля или 4 ноября), потом розовое. А кремовое сшила на Святки (к Новому году). И я стала сразу другая, не скрывалась ни за кого. А уж не сходила с полу, танцевала. Вот говорится пословица: «Наряди пень в красный день, и тот бывает хороший».
А я была забита одной работой. Бабушка, конечно, меня не так бы наряжала. Ну она была уже не хозяйка, а хозяйкой была Кока. А бабушке было уже 70 лет. А тетушка всё запасала хлеба. Мол, я выйду замуж, некому будет работать. Да, главное, у нее не было своих детей и поэтому, она не сочувствовала. Я у нее была работница, а не племянница. В 13 лет она меня брала на мельницу. Она сидит на возу, да повозничает. А я ворота открываю, ей не слезти с воза. А у нас такое место, каждая деревня огорожена со стороны поля. И вот, как деревня, то двое ворот. А до мельницы двадцать пять километров и десять деревень пока не приедем. А мешки таскать не смогала. Я мешок за горло, а тетушка сзади помогала. Как очередь подойдёт молоть, я засыпала, а она вьгребала. Так обе-то за раз и справлялися.
Нас многие жалели. Ну врагов хватало и зависть многих брала. Что мол у них всегда всё есть. А от чего было? Потому что много работали. Пойдём косить все вместе в три часа утра, а в в восемь часов домой побежали. Роса обсохла, не косится, а мы до одиннадцати часов дня. А когда приходили сена взаймы дать, бабушка говаривала, что косить то лоб жгёт, а на дворе-то конь заржет.
Много я ездила по дорогам, много я слышала новостей. А память у меня была очень хорошая. Я сразу все слова схватывала. То песню, то анекдот, то бывальщину. Когда я приеду из дороги, то ходила по вечерам на посиделку с пряжей. Все по вечерам пряли куделю и я рассказывала девчонкам новости или песню, или бывальщину. А когда такой зайдет разговор про чертей, сколь было смеху. А домой идти боятся, то про покойников, которые где-то когда-то чудились. И сколь было веселья. А когда меня не было на посиделках, то говорили, что только спать клонит. А сидели-то с лучиной, керосину-то не было. Бывало, ребята куделю подожгут. Тогда приходилось ругаться и смеяться. То веретено унесут, надо выкупать, то есть целовать парня, ну ведь не каждой нравилось выкупать-то. Ну я была боевая против своих девчонок. Они всегда дома сидели, а по дорогам матери. И вот я всегда была за старшую. Надо, вечер делать, надо керосин собирать. И все ждут меня, когда приду. Надо избу откупать. А по годам я была их младше. Песен я очень много знала, частушек более двухсот, и долевые тоже знала. Ну голоса у меня не было хорошего. Ну я зачинала, а мне помогали петь. Нас было подростков восемь девчонок. Бывало летом жара, днем слепни кусают скот, и коровы весь день дома. А в ночь их выгоняли в поле, а мы коров стережем. И все песни перепоем. А нас любили слушать женщины. И дачники приезжали на лето и просили нас: «Девочки, попойте». И давали нам денег. А которую песню просили два раза спеть. Вот эту песню очень любили:
Когда мне было лет двенадцать, то я не знала ничего.
Когда исполнилось семнадцать, то я влюбилась в одного.
И я влюбилась, заразилась, и грудь наполнилась тоской.
На сердце пало две печали и стало сердце ныть со мной.
Все говорят, что я худею, все говорят, что я больна.
Во мне не боль, большая скука, что я в мальчишку влюблена.
По докторам вы не возите, и я лекарства не взяла.
Когда умру, похороните в цветочки белые меня.
Частой решеткой обнесите во все четыре стороны,
А ты, мой милый расхороший, высокий памятник поставь.
А ты, подруга дорогая, златые буквы наведи,
Ну только тем воспамяните, что от любови умерла.
Эту песню слушали молодые девочки или женщины. А вот еще песня. Эту по заказу пела для взрослых, для пап и мам:
Прощай, мой сын! В страну чужую ты уезжаешь, Бог с тобой,
Оставил мать свою родную, с ее злосчастною судьбой.
Один ты был всегда отрадой со мной на жизненном пути,
Бывало, думала я прежде, отраду счастию найти.
Тебя качала в колыбели бессонных несколько ночей,
Сидела у твоей постели с надеждой будущей своей.
Ты подрастешь, как я мечтала, что юность крепкая твоя
Под старость будет мне отрадой, надежда верная моя.
А ты ушел в семью чужую, а я одна в краю родном.
Страдать я буду одиноко всё по тебе, мой сын родной.
Увижу гнездышко на ветке, слеза невольно потечет,
Скажу: «Ах, птички, у вас детки, а у меня теперь их нет».
Услышу я раскаты грома вдали от родины моей.
Где спросят сын, его нет дома. Теперь быть может под грозой.
А мне недолго через силу томиться с горестью своей,
Ты возвратишься и увидишь могилу матери своей.
Когда я спела эту песню в первый раз, то из другой комнаты выходит мужчина, лет сорока пяти и говорит: «Дунюшка, спой еще раз». А сам так плакал, как женщина. И жена его тоже плакала. В тот год у них ушел сын из дома. Женили его, он пожил дома с женой три месяца и ушел к тёще. А он у них был в такой чести, они на него наглядеться не могли, он был один сын, а дочек шесть. Когда их сын собирался в беседу, то сёстры вокруг него вились, кто ботинки чистил, кто галстук подавал, кто рубашку гладил. А мать о отцом не наглядывались. А он так сделал. Вот эта песня им была похожа.
Любила я песни сиротские, раз сиротой росла. Вот эту песню часто пела. Когда боронили вечером, а по заре далеко раздавалось. Или жнем рожь или овес. С песней легче было работать и горе забывалось.
По дорожке зимней, скучной конь слегка бежит,
На разваленных дровишках черный гроб стоит.
На гробу, на черной крышке мужичок сидит,
Двое, юных малолеток рядышком сидит.
Понукает он лошадку, на её кричит,
Ну, беги, беги, лошадка, сам вперед глядит.
Вот кладбище и часовня, вот и божий храм,
Навсегда жену родную муж оставил там.
Горько дети плакать стали, мать с кладбища звать,
Некому, наша родная, горьких слез унять.
Некому, наша родная, горьких слез унять,
А у нас уже другая появилась мать,
Твой-то муж, тобой любимый, наш отец родной
Твоей дочери и сыну стал совсем чужой.
Вот еще, тоже моя песня:
Уродилась я, как былинка в поле,
Моя молодость прошла в горе, да в неволе.
Лет двенадцати уже по людям ходила,
День качала я детей, ночь коров доила.
Хороша я, хороша, да плохо я одета,
Никто замуж не берет девушку за это.
Или, вот такая:
Маменька родимая, свеча неугасимая,
Горела, да растаяла, жалела, да оставила.
Очень много я знала частушек сиротских. Помню еще такую:
Зачем ты безумная, губишь того, кто завлёкся тобой.
И ежли меня ты не любишь. Не любишь, так Бог же с тобой.
У церкви стояли кареты, там пышная свадьба была,
Все гости роскошно одеты, на лицах их радость была.
Невеста была в белом платье, букет был приколот из роз,
Она на святое распятье взирала, глаза были полные слез.
Горели венчальные свечи, невеста стояла бледна,
Священнику клятвенной речи сказать не хотела она.
Я видел, как бледный румянец покрыл ей младое лицо,
Когда ей священник на палец надел золотое кольцо.
Из глаз ее горькие слезы ключом по лицу потекли,
Завянут прекрасные розы, напрасно их так берегли.
Мне стало так тяжко и жалко, что жизни своей был не рад,
И громко сказал я с неволью, счастлив мой соперник, богат.
Опишу я о своем характере.
Какая я была? Настойчивая, самолюбивая и справедливая. Ну если, кто обидит, старалась себя защитить. Ну зла долго не помнила. И всю жизнь так.
Вот помню, когда в школу ходила, ну дорогой не поладила с одной девочкой. Её звали Люба. И она матери наябедничала. И мать её меня ругала. А школа была далеко, семь километров и мы в школе спали. И я её сонную с нар, стащила. Как она закричит. И вот учительница услыхала и меня ночью в класс поставила. Ну я прощения не просила, а просидела в углу всю ночь. Ну на эту Любу я была злая. Потом я была дежурная и нас заставили молиться перед сном. А меня ребята рассмешили и я не стала больше читать, смех пробирал. Тогда меня опять учительница поставила в класс, ночью. А сама-то ушла гулять, и про меня забыла. Когда пришла с гулянки и зашла в класс, время посмотреть, то я уже спала в углу на полу. Если бы пожаловаться, то ей бы попало за это. Ну я никому не сказала. А эта Люба опять наябедничала матери, что мол я в классе стояла. Тогда я ее обозвала Шемилиха. Так ее и стали звать до возраста, пока не умерла. А что такое Шемилиха? У нас недалеко в деревне, была девушка очень красивая, высокая, богатая, по фамилии Шемилиха. И вот, когда мы стали наряжаться в беседы, то эта Люба была вся в шелку и золоте. Часы золотые, браслеты, кольца золотые. Мать ее из богатого дома. А ростом то она была маленькая, мне по шею, да еще горбатенькая. Вот она и стала на смеху, Шемилиха. И танцевать ее не брали. Мать на всех девчонок злилася и старалась всех похаять.
И вот еще случай был таков. Играли зимой в снежки, валяли друг друга. И меня в такой сугроб бросили, что я полные сапоги снегу задела и едва домой дошла, все ноги исхлопала до крови. А ведь ходили то без чулок, голые ноги-то. И я с тех пор никогда в снежки не играла. Бывало, идем стадом, и вот начинают в снежки кидать, то я старалась убежать. И я никогда не начинала, ну и меня не трогали. И драться, я тоже никогда не дралась. Ну тронут, то я языком донимала. Всего один раз я ударила граблями свою двоюродную сестру Катю. И она тетушке все рассказала, тоже была ябеда. Её родной брат не любил, а я с братом дружно жила. Что бы мы не сломали, ну друг друга не выдавали. И вот тогда тетушка мне: «Вон уходи, иди куда хочешь, чтобы тебя не было». Тогда я собралась и ушла. А дом-то большой у бабушки был. Я в сено и спряталась, а зимой холодно. Вот бабушка горюет, куда девка девалася и на тетушку ругается, что мол ты наделала. Замерзнет девчонка, кто у нас работать будет. Я слышу, а голоса не подаю. Вот они и в новую избу и на чердак. А как на повити ворота открыли, мои ноги и увидели. И давай снова ругать. Ну бабушка никогда меня не била, а тетушка с палкой ходила, бывало и огреет. Ну я старалась убежать.
Если меня по-хорошему попросят или заставят делать, то я гору сворочу, ну сделаю. А если по-худому, то сама мучаюсь и им на нервы действовала. А вот еще был случай, не помню в каком году. Я у тетушки унесла одну гребёнку, а у нее было пять. И тетушка хватилась, нет гребёнки. И пришла к нам, это было еще при родной матери. Я не помню, что мне мать делала, били или не били, ничего не помню. А запомнила то, когда она меня вела к тетушке с этой гребенкой, и мне было очень стыдно. Я подбежала в тот угол, где лежали гребенки, и на них ни на кого я не смотрела, сразу побежала домой. И это на всю жизнь мне запомнилось. А вот сколь мне было лет, я не знаю, четыре года или пять, не больше. Вот так я и всю жизнь. Не воровала, не дралась, и снегом ни в кого не кидала.
Когда стала ходить в беседы и была уже нарядная, то стали завидовать. Злых людей хватало. Стали от зависти хаять, даже к жениху на дом ходили, и хаяли, что очень бойкая. А там, может Бог знает, чего наговаривали. Хаяли, хвалили, ругали, ну я никогда не плакала и слез у меня не было. Ну вот, когда бывало кто-то заступится да пожалеет, то у меня нерв трогался и слеза пробивала из глаз. Много ото всех потерпела.
1926 год.
Только начались святки, и в первый же вечер приехали сватать. Ну не те, которым было до году отказано, а новые сваты. Парня я не знала. А гостила я в ихней родне, и бабушка знала их природу. А ведь в деревне, бывало, всю родню переберут, кто и какой и как живут, природу разбирали. Мне, конечно, с первого раза жених не понравился, смирный. А я не любила смирных. Ну мне советовали за него идти, что за таким-то и жить, всегда хозяйкой будешь. Уговорили.
В нашей-то деревне была его тетя родная, да сестра двоюродная. Они меня уговаривали, что иди, не покаешься. А тетушке-то моей не хотелось меня отдавать, такую работницу, некому пахать. И говорит: «Не выходи замуж, я тебе еще платье справлю поднебесного цвета». Ну я решила выйти. Дорого яичко в Христов день. Когда мне было шестнадцать и просила я у нее платье, она не дала. А как я хотела сидеть в беседе нарядной. Я была здоровая, румяная. На моем лице не было краски. Как идти в беседу, умоюсь холодной водой, да толстым полотенцем натру щеки и весь вечер горят. А волосы-то маленько спереди завью на горячий гвоздь. Придешь в беседу, один раз станцуем, да и все разовьется. А у нас танцуют кадрили, так все мокрые.
Ну вот так я и ушла замуж. Была свадьба 26 января 1926 года. Когда меня просватали за алешковского жениха (с деревни Алешково) и назначили пропой, мой старый жених узнал, что я выхожу замуж и он тоже стал жениться. И тоже пропой назначил в один день. Когда мне назначили свадьбу на 26 января, и он тоже самое в этот день. С какой целью, я не знаю. Ну слышала я по народу, будто он сказал, чтобы не ходить на свадьбу смотреть. А ведь один километр всего от него. И вот настал день свадьбы, а ему надо было ехать мимо моего дома. Когда он подъехал к нашей деревне, ему было не проехать, вся дорога была загорожена моим полком. Ко мне приехал дружка, меня в это время благословляли и выводили из дома, посадили и повезли к венцу. Я ехала впереди, а Шиморанов (мой старый жених) ехал за мной. И ехала я с ним до самого прихода вместе. Наш полк остановился. И он венчался после меня, и как у него было на душе, не знаю. А у меня сердце разрывалось на две части. Ну разорвать я была не в силах. Я винила его, кого он слушал. Ну когда меня венчали, столь было народу, ломилась церковь, было четыре венчания, а меня венчали первой. Ноги у меня подкашивались, в руках свечка тряслась, слезы высекались из глаз. Всё это запомнилось на всю жизнь. Как получается.
Ну верю судьбе. Есть судьба и всему так надо быть.
Вошла я в новую семью четвертая. Я, муж и две золовки, одна с 1888 года, а вторая с 1896 года. Муж с 1904 года. Я у них была маленькая, с 1907 года.
Золовки были очень рады, я им очень нравилась. Когда они поехали свататься ко мне, им сказали, что не в свои сани садитесь, её не отдадут. А получилось так, я вышла. Конечно, я бы за него не пошла. Я от жизни пошла, от тетушки. Приезжают ребята в беседу и сразу смотрят кто и как одет. И также женились. Богатый ехал к богатой, а бедный к бедной. А наша-то родовая всю жизнь была на славе. Прадед-то был бурмистр, его вся округа знала. А я была бедная. Только и славилась работой: «Вот девка-то, вот работница хорошая». А эта слава для стариков, а для молодежи наоборот. Как говорит пословица: «Не жала бы и не косила, а была бы на личико красива». Я не хвастаю своей красотой. Нюша Богачева была красивее меня, ну и нарядная, вся в золоте сидела. А я на втором месте по красоте.
Когда я вышла замуж, мне жизнь была хорошая. Золовки были смирные. Одна была богомолка (Елизавета, младшая), все воскресенья в церковь ходила молиться. А старшая хозяйство вела. Родители их умерли от тифа в 1919 году. А в том году очень много умирало народу. Вот у них отца и мать хоронили в одну могилу. И вскоре, в этом же году их брат Михаил умер, он с 1901 года. Ему было 18 лет. Очень был хороший, его все соседи хвалили. Был грамотный, учился хорошо, первый ученик был в школе. Я помню, был его портрет, свидетельство, похвальная грамота, Евангелие и наградная книга. И ремеслу был научен, столяром работал в Питере у дяди Голикова Ивана.
Так что, мы были с мужем круглыми сиротами, мой муж был неграмотный. Походил пол зимы и тоже больше не учился. Пошла голодовка, обуви нет. Так и остался неграмотным. Дети в деревне все были неграмотные, даже мужчины неграмотные, не могли написать письма. И золовки тоже неграмотные. Одна, младшая, самоучкой научилась писать и читать. А вторая буквы знала, а имя свое не сложит. Они после родителей жили так без чего нельзя. Старшая золовка была трудоспособная, её везде гоняли по дорогам, тоже хватила горя, холода и голода. Всё же была разруха. Ну когда я вышла замуж, то хозяйство было слабое против бабушкиного: одна корова, один конь, одна овца, поросенок был большой. Мясо было. Корму до нови не хватало. Распорядка хорошего не было. А у бабушки хозяйство было: две коровы, лошадь и жеребенок, четыре матки овец и кур без счета. Золовки по настоящему жить не умели. Земли у них было много и земля была хорошая. Не было хозяина. Старшая золовка (потом я, муж и мои дети стали звать Кокой, её имя Парасковья) как-то говорила: «Как женю брата, так всё хозяйство, отдам». А вторая золовка Елизавета (младшая, её потом стали звать няней), говорила: «И мне ничего не надо». Соберется, да и в церковь. Хоть рабочая пора, а ей все равно.
Пришла весна, пошла работа. Я поехала пахать, а муж на завод работать. У нас был лесопильный завод, в четырех километрах. Надо было деньги зарабатывать за свадьбу, сделали на занятые деньги. А моя бабушка свадьбу сделала, ни копейки не заняли, деньги были, жеребёнка продали. И свадьба была хорошая у нас в Бошкадино. Лучше, чем в Алёшково у мужа (в восьми километрах от Бошкадино). И посуда была вся своя, рюмки, вилки, тарелки, чашки, всё своё. А в Алёшково ничего не было. Как свадьба прошла, посуду вымыли и стали всю посуду разносить и осталось мало.
Итак, пришла пора ехать в поле пахать. Кока показала мне полосу. Все смотрят, как пашу. Как говорится пословица: «Над молодым и голик три года смеется». Я была приучена к любой работе. Мне не надо никого было спрашивать. Плуг налажу так, только держи за ручки. Вот раз иду, а мне и говорит одна соседка: «Ну, Авдотья, у тебя пахота, да у меня, изо всех полей лучшие». А ей было пятьдесят лет, она тоже хорошо работала. И хозяйство у них было хорошее. Говорили моим золовкам: «Ну у вас и молодая, ну и работница». А золовки гордилися. Жили мы дружно, выноса из дома не было. Меня спрашивали: «Как живешь? Какие золовки?». Я всегда хвалила, что очень хорошие. А то им все передадут. А их спрашивали: «Ну как у вас молодая-то?» А они меня тоже расхваливали, что такой и нет.
Вот пришел сенокос, пошли косить на пустошь по человеку из дома. И косили под одну косу. Пришли. Все стали косы точить. И я тоже. Ну никто не начинает. Ждут, как бы кто начал. А главное, как мол молодая-то косит. В деревне так водится со старины. Я встала, а за мной встали хорошие кошеи. Конечно с целью. Я поднажала, вперед прокос прошла, а потом я уже за другими встала. Да тоже поднажала, вот вам как ценить безо время. И говорят: «Дуняшка, потише коси, устанешь». А я им даю жару. Я косила хорошо и за мной было трудно гоняться. А притом, я хорошо косу натачивала. Меня бабушка научила как правильно косу натачивать. И говаривала: «Не тот косец, который шибко машет, а тот косец, который косу натачивает». Пришли домой и в тот же день увидели моих золовок и говорят: «Ну у вас и кошея-то молодая, ну и работница». Вот я с первого года и вошла в славу.
А по воскресеньям приходили богатые и просили косить и меня посылали. Я ходила, да почему-то и многие ходили, как в заработки.
Я раз пришла к бабушке, а она обиделась, что редко хожу. А я говорю: «Да все воскресенья ходим под наёмку к богачам косить». А мне бабушка и говорит: «А у вас-то есть покос?». А я говорю: «Есть, много». Тогда она меня и учит: «Как будут посылать косить, а ты им скажи, что Кока, пойдем на свой покос, накосим воз, да и положим его отдельно. А зимой его продадим. Получится не три рубля, а тридцать рублей возьмем за воз. Это она меня учила, как сказать, а мне говорит: «Вот, внученька, не зарабатывай гроши, зимой рубли потеряешь». Я в первый год ходила под наёмку косить, а больше и конец, не стала. А для себя накосили и пустили две коровы и овец не одну.
Пришла осень. В октябре мужа взяли в армию. Я осталась в положении. Ни куда я не ходила, ни по беседам, ни куда. Больше дома по вечерам пряли. Жили хорошо и в семье, и власть стала налаживаться. Всего стало много. Только бы деньги были. Ну у нас денег не стало, хозяин в армии. А в деревне можно было жить. Всё своё, не надо в магазин идти за хлебом, а сходил в подпол. Наварил картофеля и сыт. Грибы, огурцы, капуста, своё. Лето потрудишься, а зимой лежи, да в потолок поплевывай. Ни кому не должен. Себе хозяин. Когда лег, когда встал. Не на работу бежать, как в городе надо все к часам. Никуда не гоняли. Хорошее время было. Ну мало пожили.
1927 год.
21 мая 1927 года я родила сына Колю. Старшая золовка села в няньки. Я работала и вторая золовка тоже со мной работала. Хозяйство все на мне. На мне все обязанности, везде за все отвечала. Жили хорошо.
И вот, несчастье постигло, стихийное бедствие. 25 августа 1927 года случился пожар. Загорелся у соседки дом. Была жара, всё было сухо воды в прудах не было. Все побежали к ней на помощь. А как в крышу пламя выкинуло, так по ветру сразу загорелось пять домов. И у нас все сгорело: дом со двором, амбар с хлебом, сарай с сеном и куры сгорели. А скот был на поле. Пожар случился в пять часов вечера. Всё пригорело.
Послали мужу телеграмму. Его отпустили на две недели с дорогой. Он служил в Киеве. Побыл дома одну неделю, только расстроился. Председатель сельсовета был очень хороший человек. И написал он такую бумагу прямо на Ворошилова. И муж поехал в Москву к Ворошилову. Когда он стал спрашивать, как пройти к Ворошилову, его не допустили. Он показал письмо. Тогда доложили Ворошилову и он разрешил пройти. Когда он прочитал это письмо, то приказал секретарю написать письмо на часть. Поехал муж в часть свою, подал документы. Ему сказали: погоди маленько, послужи. Старых солдат домой отпускают, а молодых нагнали, надо их обучать, а то некому. И всё на пост гоняли. Не кого посылать. Он прослужил еще месяц и нам писем все не было. И вот в октябре месяце пришел домой. Мне кричат: «Дуняшка! иди мужа встречай!». А я в лаптях. Стыдно. Я сняла лапти и босиком, а в шубе. Бегу, а ноги зашлись от холода. Он спрашивает: «Почему босая?». А я говорю: «Не в чем, только лапти». А ты бы и в лаптях шла. А я говорю: «Стыдно в лаптях-то». Ну я и простыла. Да как у меня стали зубы болеть. Я до двадцати лет не знала как болеют зубы. Ну и помучилась.
Как пришел муж домой, получили страховку. Купили амбар у богача хороший и поставили избушку в четыре окошка. Перешли жить 20 мая 1928 года. Сельсовет нам дал леса самого лучшего, как погорельцу и красноармейцу. Вот мы зимой лес срубили, попросили три деревни помочь подвести к дому. И нам всё в один день перевезли. Все нас жалели в это время и разговор на приходе только и был, что сироты сгорели.
Сельсовет дал справку, чтобы нам на мельнице выделили муки. Получили двадцать пудов, хорошо помогли нам. Когда перешли жить в избушку, сразу же взял муж человека и стал рубить срубы. Срубили и стал двор рубить. И в сентябре 1928 года покрыли крышу и двор. Так было радостно, что корова и конь стояли под крышей. А то бывало дождь пойдет, а их мочит. Крышу-то было нечем крыть. Тогда намолотили соломы и крышу-то и покрыли. И опять зажили хорошо. А в 1929 году поставили новый дом, в восемь окон, крышу покрыли дранкой. Всю зиму по вечерам муж дранку драл, а день в заводе работал. А я связывала пучки по сто штук. Семья была сильная, все молоды. Кока по дому, а мы работали.
Стало две коровы, конь, жеребенок, овец стали больше пускать. Потом жеребенка продали и купили кирпичу на печь. И купила я всем по платку и по платьям. И совсем хорошо стали жить. Муж уехал в Ленинград. Надо всех приодеть и сам доносился, нечего стало носить. Ну работали так все дружно, что опять стали завидовать. А мы вставали в три часа ночи, а ложились в двенадцать часов ночи. Напряли по ночам мешков и матрацев. Ничего же нет, всё сгорело.
Подрастал сын Коля. Он был смирный, маленький был спокойный. Одного оставляла, уходила и надолго, надо ведь и воды навозить, и корму, и скотину напоить. А он сидит, играет в игрушки. Ничего не было, подам чашку, да ложку, да гороха насыплю в чашку. Вот он и пересыпает из чашки в чашку. Я за это время всё и сделаю.
1928, 1929 годы.
Началась власть меняться. Стали гонять на работу — труд-гуж-повинности. Наложут несколько кубометров леса на лошадь и на меня. Вот и ходила за восемь километров рубить. На всю деревню накладали, все и пойдем с утра. А зарабатывали гроши. Когда было добровольно, сами в лес ехали и все старались заработать. А тут: «Били пень, коротали день». Придем, отметимся, придёт начальник, уйдет. А мы домой. Стали накладать песок возить — дорогу чинить. На меня шесть кубометров и на лошадь. А ехать за песком четырнадцать километров. И вот я из дорог не выходила. То зимой тёс возила за пятьдесят километров до станции Антропово. Лесом-то бывало едешь спокойно, а как выезжаешь в поле, так по обе стороны размахи. Берёшь через плечо верёвку да зад-то и придерживаешь. А то как замахнет и лошадь к верх ногами опрокинет.
В 1929 году родился мальчик Минька. Но умер, когда ему было пятнадцать дней. Какая-то скарлатина захватила, мало болел, в одни сутки умер.
В 1930 году я была в положении Аней, а всю зиму возила тёс. Говорю золовкам: «Не могу ехать такую даль». Кока (Парасковья) говорит: «Я не трудоспособная». А няня (Елизавета) говорит: «Я слепая» (близорукая была, плохо видела). Тогда коня стали брать на чужие руки. А как дать коня? Останешься без лошади. Придет пора, надо пахать, а мы будем, руками махать. Вот такая пошла наша жизнь.
Проработали лето 1930 года, а осенью ушли в зимницы Кока, и няня. А я домохозяйка, меня не гонят. То и дело стали собрания. Стали накладать хлеба на хозяйство, молока с коровы двести восемьдесят литров, а мяса на деревню. Если бы налог и на мясо давали на хозяйство, как молоко, тогда бы лучше жили. А то на деревню. Кто хочет вести? Никто. И вот, в первую очередь, вести тому, у кого две коровы и у кого семья маленькая. Тот повел корову, другой повел, а потом и мы повели. Когда всех коров перевозили, то не стали больше пускать в племя две коровы. Также и овец. Пустим четыре матки в зиму. А в марте месяце пойдет перепись по дворам. А записано-то две матки. А найдут лишку — отберут, да штрафу дадут за укрытие. А хозяева опять же беднота.
Была у меня соседка рядом. Мы с ней обе из одной деревни были приведены замуж. У нас с ней было по трое детей. И земля одинаковая. Я сгорела и опять нажила. А она всё время беднячка. А почему? Я наработаюсь досыта, а она только встает. Вот так-то и доводили опять хозяйство. Стали держать двух овец и одну корову.
Ну вот начали создавать колхозы. Все-то ночи и все дни только собрания за собранием. Ну в колхоз мы не шли. И хлеба наложут — свезём. Потом стали на нас льну накладать. А я льна-то и не сеяла много. Насеем на мешки, да на портянки, попредём зимой. А я-то худо пряла.
Когда я родила Аню, то все были дома. Лето, все работали. Муж дом отделывал, а мы по хозяйству. До сенокоса рубили лес на дрова. Так много наделили леса, вот и рубили. Я так устала, едва домой дошла. А утром коке и говорю: «Мне бы надо к акушерке съездить, у меня спина болит, не наклониться, совсем не могу». А кока с няней и говорит: «Сходи-ка в церковь, да причастись, вот и легче будет». Я пошла, такая-то усталая, едва дошла до церкви. А церковь в пяти километрах, если не больше. Постояла я, да как стали перехваты. И думаю, мне домой не дойти. Пошла я домой, одна была, из деревни никто не ходил молиться. Все так устали, а меня послали. Я едва шла, живот руками поддерживала. Схватки чаще и чаще. Все-таки дошла до дома и заплакала. Остается только умереть. Тогда кока за бабкой послала мужа, а он стесняется сказать. Та сидела на беседках с народом. А он все ждал, когда она домой пойдет. Вот тоже был! Я родила с кокой, пока его ждали. И ребенка уже вымыли. Родила её семи месяцев, не доходила её из-за этой принудиловки, когда всю зиму гоняли тёс возить за пятьдесят километров, да еще два раза крепко упала, когда с ней ходила. Родила её маленькой, сухая, старая. В чём была кожа, да косточки.
Все, кто приходили смотреть, все говорили: «Ну, эта не жилица». Да она и на самом деле лежала на печке на подушке и ничуть голоса. Жива или не жива. Послушаю, теплая. С ложки пропущу молока, вроде проглотит. А сама она не просила есть. И лежала на печи два месяца. А потом, как дошла до время, да как начала реветь. Никому покоя не стало. Орала день и ночь до полгода. А потом стала хорошая, спокойная. А наливалась каждый день. Стала румяная, полненькая. В одиннадцать месяцев стала ходить и не ползала. Раз сидим мы с кокой на полу у маленькой печки и говорим: «Нюшенька, одна-одна». Она одна стояла. Да как побежит от меня и до коки, метр было расстояние. И она бегом, а если шагом, то валилась. Так было смешно всем. Да, диво-то какое. Такая крошка и пошла. Нисколько не ползала.
1930 год.
Летом кока водилась с ребятами, а я с няней работала. А в зиму обе уходили в няньки. Как будто нельзя было дома жить. А муж в Ленинграде. Как хочешь живи: скотина, надо печь истопить и воды навозить, и ребенок маленький. Вот так и приходилось жить. Женщины в деревне ездили к мужьям в Ленинград, а коку просили домовкой пожить. Вот она и жила три зимы подряд по три или четыре месяца. Так все и ухитрялися уехать к мужьям, чтобы некому было ехать в лес. Одного из дома не погонят. А уполномоченных бегало, как собак. Только одни собрания. Все стали друг на друга скандалить. Кому охота ехать в лес и работать за даром. А кто-то уехал в Питер. Ну летом не гоняли, мало ходили. До сенокоса сучья убирали, да жгли по делянам. А если бы платили деньги, то все бы пошли.
1931 год.
Отработали лето и няня ушла совсем, на производство, в детский дом работать прачкой. А кока ушла в зимницы. Стали на нас злиться, что летом все дома, а зимой все ушли. Некому в лес ехать. А мужики все из деревни уехали в Ленинград. Тогда стали колхозы объединять. Половину сельсовета в колхоз зашли, а мы с Алёшково и Сазоново ни в какую не соглашаемся. С нами тоже няньчилися. А налогами стали душить. Мужики только и слали деньги на налог. По три налога платили.
Потом вышло новое постановление. Стали мясо накладать не на деревню, а на каждое хозяйство. Вот тогда нам стало лучше. Я свезу двух овец и сразу за год. А беднота-то зачесалась. То бывало как у них: «У меня мол одна овца и одна корова, с меня мол и взять нечего». А теперь отдай, сколь положено. И бедноты не стало. Все стали одинаковы. Постановили так. Огород, усадьба есть, плати. Мяса пятьдесят килограмм, молока триста литров, яиц тридцать штук, шерсти с овцы четыреста грамм, с ягненка двести грамм, картофеля тридцать пудов, налогу с надела четыреста рублей, самообложения четыреста рублей и облигаций на четыреста рублей. А хлеба, не знаю и норму, по три раза в год платили. А нет хлеба, покупали и платили.
Ну всё же лучше стало, чем так — кто больше пустит овец и всё вези. Каждый год везли двух, да трёх баранов. А тут свезёшь или деньгами вложишь двести рублей. И живешь спокойно год.
Ну молодежь наряжалася, делали беседы. Наряды стали хорошие. Всего стало много, всякой мануфактуры. И шёлка, и маркезет, и шерсть. Хотя шерсть не совсем хорошая, как сейчас. Ну всё же не простое платье. Бархат появился. Девочки были нарядные. Вспоминалась наша молодость, что ничего не было. Также святки были и женились. Всё было в Ленинграде. И нам присылали и обувь и одежду, всего было. Стала и я копить не шитого. Помню, муж прислал мне за год шесть жакетов, да свитер шерстяной. Я стала нарядная ходить. Хотя жакеты не шерстяные, а бумажные, но в деревне было очень хорошо. Дети подрастали. Помню, бывало приду на собрание с Аней, так её с рук не спускали. Из рук в руки передавали. Такая была затейница. И говорить рано начала. Но одна дома на оставалась. Как я за дверь, а она рёвка. Может она привыкла с Колей вдвоем играть. И поэтому одна ни на шаг. Приходилось наказывать прутом. Ну все равно одна не оставалась. Ей было два года и шесть месяцев, она пела песни и много их знала.
Вот её песня:
Встанька, маменька, поланте и потлутай на заре,
Как я буду, голько плакать на тудой на столоне.
Вторая песня:
Папинька и маминька, потавьте домик маленький,
Поставьте домик во таду, вовеки дамуж не пойду.
Еще песню помню:
Аклой, маминька окотытько, головутка болит.
Полно дитетко оманывать, тальянотька манит.
Отклой, маминька окотко на дви половинотьки,
Лекингладцкий поист едит, нет ли ягодиночки.
1932 год.
И опять нас несчастье постигло. Опять сгорели. Первого января нас подожгли из-за коки. Такой-то дом выстроили. Только всё и говорили: «Какой Павлуха дом поставил, какой старательный». Только печку не сложили, а то всё уже было сделано. А вот говорится пословица: «Видел — не видел. Слышал — не слыхал». А вот кока сунулась в чужие дела. А зачем?
Рядом жил сосед, Калачёв его фамилия. Он овдовел, осталась дочь лет девяти. Это было до меня, в 1925 году. Он женился, девочка жила с мачехой. И один раз мачеха девочку избивала. Народ видел и вызвал милиционера. Составили протокол и в суд подали. А суд-то был, уже в 1926 году. Я это помню. Когда на суд пошли, двое свидетелей отказалось. А кока наша пошла.
Когда кока пришла на суд, то Калачёв ей сказал: «Ну, Парасковья, не в год, не в два, но я тебе отплачу». Ну кока перед судом, всё заявила перед судом, всё записали. А что толку-то. Суд присудил его жене три года тюрьмы. Тогда Калачёв подал на пересуд. Он просудил двух поросят. Адвокату было, конечно, неприятно. Второй суд вызвали, а жена Калачёва была в положении. Суд отменили. А потом амнистия была. Так всё и заглохло.
Ну была некрасивая история. И вот, когда мы строились, а Калачёв мужу и говорит: «Напрасно, крестник ты так убиваешься, пожалей силу». Он был крестным мужу. Ну коку помнил, он был злодебный.
А кока была, в каждую бочку затычка. Я ли, не я ли, всех умней. Вот умерла тетя Надежда Голикова в Башкадино, а была очень богата, осталась девочка лет шесть или семь, не помню. И надо опекуна. И два сына в Ленинграде. И вот коку поставили опекуном. И она привезла всё имущество, скот продала. Девочку в Ленинград увезли. А кока и развешала по огороду все пальто. А какие пальто-то: одно на лисьем меху, дорогой, самый дорогой воротник. Я конечно, не знаю, как назывался. Второе на кенгуровом меху, мужское. Третье на черном меху, тоже мужское. Четвертое на беличьем меху, женское. И всякого шелку и шерсти очень много. Она не подумала, что Калачу навредила, а он помнил. И вот он знал, что я одна спала. Как раз я шла домой с его женой из беседы, с ребятами. Ане был второй год, а Коле пять лет. Меня Вера Калачёва спросила: «Ты что, одна?». А я говорю, что кока ночует там на хуторе. И вот они знали, что я одна. Я в пять часов встала утром, затопила печь и говорю Коле: «Покачай Нюшу, я схожу скотину оделю». Подхожу, я к двери, а на коридоре шум. Крыша загорелась. Я открыла дверь на улицу, а Калача жена стоит у дома своего и мне ни слова. Я кричу: «Помогите, крестный, горим!». И он не пришел. А увидел второй сосед и прибежал. И стал дверь ломать на двор, а запоры-то очень крепкие. Едва сломал. А у нас была лошадь, две коровы и овцы. Скот спасли. А я только и успела сундук стащить с повити кокин. А моё всё было в избе. Ничего не успела взять, только ребят. А свидетелей нет, Калачёв это знал. Вот так и пострадали мы с мужем из-за людей.
Нам стало тяжело снова строиться. Мы купили хутор недалеко, в пятистах метрах. Я с семьей поехала на хутор, а золовки нет. Нам в колхозе совсем не давали жить. Были хорошей рабочей силой. Везде гоняли, в каждую дорогу, куда бы не была дорога. Я из дорог не выходила. Вот тогда одна из золовок (няня) и ушла на производство. А кока захотела поставить себе избушку на той же дворине, где дом стоял у нас. У нас было две коровы, обе молодые. Одна один раз телилась, а вторая, два раза и пушена нетель.
Ну мы сделали раздел . У нас стало по одной корове и по две овцы. А жили-то вместе. Нам соседи не поверили, что мы разделилися. И вот кока и няня вместе пай взяли. И одну корову продали и купили срубы. И поставили коке домик. Лошадь была пополам. Кока перешла в свою избу, няня на производство. Я осталась одна с детьми, Колей и Аней. Я наняла в дом няньку, мальчишку. Хороший парень был. Всё сделает, пол подметет и посуду помоет, и гулял с моими ребятами по улице. Аню переодевал раза три в день. Как платье грязное, так опять переоденет. Пошлю бывало: «Минька, иди за дядей Павлом». И он одна нога на пороге, а вторая на другом. Только его и видели. Когда он отжил лето, то я ему подарила подарок, сверх зарплаты купила штаны и рубаху белую. И он и мать его очень были рады. Сколь было спасибо-то. А он был сирота, у него отца не было. У матери трое ребят осталось
1933 год.
У меня родился сын Петя, 28 января 1933 года.
Муж приезжал домой только в отпуск на один месяц. Долго жить было нельзя. Как месяц отжил, так и в лес назначат. Так все мужчины уехали в Питер, и присылали нам деньги, чтобы платить налоги. Ну в колхоз не шли.
А старые женщины, нам всё говорят: «Не ходите в колхоз, антихрист сойдет с небес. И будут ремни вырезать, и печати ставить на груди». А мы-то, дураки, неграмотные, не смели идти против старых, они же умнее. Что мне было, 25 лет, когда Петю родила. И вот наложили на меня льну, и на всех на деревню по пять пудов трепаного, чистого. А где его взять? Надо бы в колхоз вступать и всё бы сняли. Нет, в колхоз не пойдем, как быки уперлись. Нас еще хлебом обложили. Увезли весь хлеб, который был в амбарах. Я поехала в Матвеево, это в другом районе. Взяла я сорок катушек ниток, да мануфактуры не знаю сколь. Как раз, когда сгорели, муж привез семьдесят метров после пожара. И вот лён я купила и с государством рассчиталась.
Живём дальше.
И вот как нас решили в колхоз загнать. Вот приходит весна, нам приказ из сельсовета, чтобы скот не спускать. Всё отходит под колхоз. Вот тут-то нас и прижали. И взошли в колхоз. И надо было свою землю обсеять, чем хочешь, что найдёшь. Овёс, ячмень, пшеница, горох. Ну было бы обсеяно. И рожь обобществили в колхоз. И все мужики приехали в деревню колхозный двор строить. Ну трое не приехали: мой муж, да брат двоюродный Скворцов Павел Александрович и Никифоров. Тогда мужики зарабатывали по три трудодня в день. А мы, бабёнки, по одному трудодню. Весь мой хлеб пошёл на людей. Что я сдала хлеба-то, пять лет работала, а своего не заработала.

Фото из архива Петровской библиотеки.
Когда родился сын Петя, то он был тоже очень спокойный. Плакал он, когда у него грызла грыжа. А как прошло, так опять стал спокойным. Я наняла няньку, девочку 14-ти лет. Ну была такая тихоня, лодырь. С маткой по миру ходила. А делать ни к чему не приучена. Мне было очень трудно.
А кока в колхоз не пошла, живёт себе хозяйкой. А осенью на неё налог единоличный шестьсот рублей. А где она может взять? Ей было около пятидесяти лет. И она ушла в няньки, землей она не пользовалась. Незаконно на неё наложили налог. Человек неграмотный, просто по злу, что в колхоз не идет.
Ну мужики двор поставили. Коней повели на колхозный двор. Отработали мужики лето, а в зиму-то все в Питер. А корму-то, накосили сена мало. Не хватит. Вот стали браковать коней и продавать. Продали больше десяти коней. Когда в колхоз-то зашли, приказали больше льну сеять. А у нас лен-то не растёт. Вот насеяли на хорошую землю лён, а хлеб по горам. У нас не стало ни льну, ни хлеба. Вот всё и уехали. Остались два старика, которые никогда в Питер не ездили. Один косы бил, другой лемехи вострил. И бригадира у нас на стало. А председатель был мужчина неграмотный. Он был портной, шил одежду. И жил он хорошо. Детей у него не было, только с женой. Он не мог написать своё имя и фамилиё, а ставил 00. А счёт он знал в уме, хорошо высчитывал. Стали бригадира выбирать. А кого? Все неграмотные. Бригадиру необходимо было знать таблицу умножения. Я таблицу знала. Ну высчитывать я не понимала. Что такое сотка и какой гектар, мне рассказали. И я взялась работать бригадиром. Умножала я хорошо, а делить не знала. Вот председатель меня научил как надо делить в уме. Сперва тысячи, а потом сотни, а потом десятки и единицы. Я скоро поняла, и стала делить в уме. Ну тут надо хорошую память. Ну а у меня память была хорошая. Ну за все ихние издевательства не надо бы садиться в бригадиры. А я, такая дура, не злодебная. Стали просить. Уполномоченный приехал, председатель сельсовета. И все колхозники стали просить, все стали ангелами, только садись.
А первый год что делали? Муж не в колхозе, а мне давали работу хуже, дали мне коня самого плохого. А моего коня другим прикрепили. Да и загнали беднягу, кто её пожалеет. Как кончится рабочий день, одна поехала на ней за соломой. Только приедет, вторая: «Кума, не выпрягай, я сейчас за дровами съезжу», только дров привезёт, третья ждёт: «Не выпрягай, я сейчас копну сена привезу. И каждая старалась поскорей, кнутом её стягали, а она, бедная, так устала, что едва ноги переставляла. А у меня сердце кровью обливалось. И сказать нельзя, колхозная, а не моя. Ну и загоняли за лето. У меня она была, даже прута не видела. Только скажешь: «Ну, Звёздка, пошла!». Ну когда её продали, и мои глаза не стали видеть, мне стало легче. Красивый конь, грива черная, голова кверху, складная, а сама гнедая, умница была.
1934 год.
Стала я работать бригадиром. Работала я честно. Каждому старалась записать работу правильно. И я проработала бригадиром до 1936 года. Всего было, кто ругал, а кто хвалил. Ну кто старался работать, того, куда не пошлёшь, он везде заработает. А кто не хотел, у того и дней нет. Бывало, дашь наряд на работу. Она ответит: «Сегодня я буду стирать». Завтра то же: «Я пойду на почту». А послезавтра в гости. А когда получают трудовую книжку, то смотрят: «А что у меня дней-то мало, а у той много?». А я записывала всё отдельно и представлю ей сколь дней она не работала. А ведь и хлеб и сено и солому, всё по трудодням давали. Тогда стали получше работать. Так и жили.
Все привыкли к колхозной жизни. Налогу стали платить меньше. А молоко и мясо, шерсть, яички, это так и платили. Жили не богато. Конечно, у кого мужья не пьяницы, те присылали из Ленинграда. А у кого совсем ничего нет, то тяжело жилось. Да, вот, я забыла написать. В 1934 году хутора, на снос постановили. И нас опять трясти. Тогда я купила в деревне дом в нашем колхозе, только в другой деревне — Игнатово шесть дворов всего. Муж так и в отпуск не приезжал два года, дом оплачивал. За хутор не получили страховки. Надо было с хутора снести все столбы, вырыть их, чтобы трактор пошел и плуг не сломал. Да где же их убрать. Если бы одна изба, а то дом пятистенный, да веранда, да два сарая, двор. Как всё это снести? Легче купить готовый. Так и сделали.
1935 год.
Стало мне полегче. Стали сознавать мои труды. Кто был хороший, середняк, он везде шёл, на любую работу. А кто был беднота, когда было всё единолично (а в колхозе их звали не беднота, а …) их так звали, то они работали так. Вот, бывало, все уже на работу собрались, а беднота только печку затопила. Вот и жди с них работы. Где попашет, там и плуг оставит. Где поборонит, там и борону оставит. А я пойду мерить и вижу — борона уже травой заросла. Бывало, таскала на себе борону. Ну потом на правлении стали так постановлять: если оставила, то сама и привези, ну без платы, этот час в трудодень не записывать. Стали меньше оставлять. В 1935 году дали, нам трактор, тоже одно горе. Так плохо пахал, так накорёжет, что лошади валялись. Нельзя совсем было боронить. А потом и совсем отказались, боронить: «Бороните сами, раз напортили». И вот, бывало, напашут тракторами, и надо мерить, сколь напахали. Я тоже мерила для себя сколь надо семян отпускать на посев. И вот раз намерила я столь гектар, а трактористы тоже намерили. И у всех получилось по разному. У одного примерно восемь гектар, у второго десять, у меня двенадцать, а у кого пятнадцать. Вот сели на лужок и давай пересчитывать. А я сижу, слушаю. У кого сколь, а у меня правильно. А трактористы были все грамотные. У кого пять классов, у кого и семь классов, а у кого четыре класса. А я была грамотея. И вот, сколь не считали, получилось столь, сколь я намерила. Они снова ходили мерить. И тогда бригадир тракторной бригады стал верить мне. И не стал больше мерить для себя. Я тогда взошла в доверие и трактористам и колхозникам.
Подруг я не заводила, все были для меня одинаковы. Кто, что заработал, тот то и получи. Заведи сегодня подругу, а завтра она тебя продаст. Все стали ангелы. А я помню 1933-й год, хватит, потерпела. Я стала греметь и в сельсовете. И премию стали начислять. Ну я премии никогда не брала, просила, отдайте тому-то, кто хорошо работал, безотказно. У них нет отходника, а у меня муж есть. Стали колхозные праздники справлять — 7 ноября и 1 мая. Стали резать баранов или телёнка. Стали стряпать. А на водку продадим хлеба и водки купим. Выбирали хороших стряпух. Кто обеды, кто с пирогами. Я горазда была пироги печь, хорошо получалось. Стали давать лошадей, по беседам ездить. Ну с условием, прикрепляли ответственного человека, чтобы коня не испортить. Беречь, как своего, берегли. А то было так — не наш конь, колхозный. И леший с ним, пускай сдыхает. Вот так всё это и было, и промотали. Многое потеряли. А всё себе убытки-то. С государством рассчитайся.
Стали мужички приезжать зимой в отпуск. И смотрят, на жён — каждый день надо идти в колхоз лён трепать да мять. А ведь мы лён-то сеяли только мешков наткать. Ведь лён-то у нас не растет. Мужьям это не нравилось, что только месяц поживешь и опять уезжай. А в колхоз-то их не заманишь, нет. Теперь единоличного поля не посеяно. Стали некоторые своих жён увозить с собой в Ленинград. Тут стали запрещать давать справки из колхоза. Ну семейные-то жили в колхозе, привыкли. Не надо было просить уже, что поработайте, пожалуйста, а сами шли. И бедноты не стало. А лодыри были. Вот опять дашь наряд. Она заболела. А раз заболела, давай справку от врача. А нет, то прогул. А к концу месяца увидят, что трудодней-то нет, кричат: «Меня бригадир обманул!», и на весь колхоз. А я уже научилась с такими людьми, лодырями. Стала все записывать в отдельную тетрадь. И когда бывало, прибежит кто-нибудь в правление, и жалуется счетоводу, меня вызывают. И я подам все сведения: где была, какого числа, что делала. Вот так и терпела. Надо было и свою усадьбу пахать. В первую очередь шла навстречу тем, кто хорошо работал.
Стало полегче работать, да и привыкла ко всему. Была уже хозяйкой всего колхоза. А председатель сел и ноги свешал на меня. Он знал, что дело у меня идёт. Сидит, да шьёт.
Да в то время и в Ленинграде не было ситцев. Там была очередь. Если где дают, то с ночи занимали очередь. И давали ситцу по десять метров в одни руки. Тогда мой муж, как выходной день, вставал в три часа ночи, занимал очередь в двух или трёх магазинах, и получал по десять метров. Ну не того, какого хотел, а какое достанется. Вот и присылал посылки по пятьдесят или шестьдесят метров всякого и фланели, и коленкора, и шерсти, и шёлку, и батиста, и всякой ткани. Чего давали, то и брал. Так и все наши мужички стали присылать посылками.
А с керосином тоже плохо было. Присылали из Питера тарами. По сорок литров бутыли. Малой скоростью шло до Антропово, а там на лошадях ездили до дома. Мне муж прислал две бутыли по сорок литров. Ну когда трактористы стали работать, то у них можно было купить. Ну кое-кому они тоже не давали. Боялись, что докажут. Надо было язык крепко держать.
1936 год.
Помню, когда я была бригадиром, в 1936 году попал медведь в капкан. Сколь было страха, удивления, беготни. Это раз пошёл старичок, лет восемьдесят ему было, за грибами. И с ним пошёл мальчик лет четырнадцати и по дороге в лесу их увидел медведь. Да как рявкнет. А старичок как напугался и даже авария получилась. Ну он пришел домой и заболел. И вскоре умер с испуга. А мальчик ничего, не так испугался. Прибежал в деревню, сказал, что медведь на Ивановском в капкан попал. Вот все забегали, как бы его посмотреть живого. Ведь живого не каждый видел. Все меня спрашивали отпустить. Ну я тогда пошла к председателю, объяснила. Ну он разрешил, пусть мол идут. А время-то было — горячая пора, август, лён таскали. Ну все и побежали, старые и малые. Как увидел их медведь, да как рявкнет, и все обратно. А как он затихнет, то опять к нему. И я тут же была. А у медведя нога в капкане, всю ногу-то сдавил. Только на жилах был капкан-то. Если бы жилы оторвал, то он бы ушел. Ну ему было тяжело, капкан был тяжел. Мужики, его убили, связали ноги. Пихнули жердь и понесли его в деревню. И дали весть охотнику. Когда охотник увез домой медведя, сварил часть мяса, привез мужикам медвежатины и самогона, а женщинам ведро меда. Моя дочь Аня была маленькая, ну помнит то, сколь из медведя вынули меда. Ей так казалось.
Пропустила, какие гулянья были. Бывало, в святки нарядятся наряженки, да по беседам и поедем, кто удалые-то были плясать, да песни петь. Ну и почудили. Ну я была не плясунья. Зато я была за сваху. Мне шло. Одеть было что, пальто и шаль были хорошие. Вот всю неделю по беседам, все приходы объедем. И не лень было все ночи гулять по тридцать километров за вечер. А потом по домам. А ребят-то своих в одну избу снесём к бабе Лизе нашей. Она всех на пол уложит спать повалкой. Да и вообще в деревне жить было веселее, чем в городе. В городе, куда ни пойди, везде деньги надо. А в деревне только не ленись. Всю зиму вечера, куда захочешь, туда и иди.
Ну жизнь деревенскую сломали колхозы. Если бы не колхозы, то я ни куда бы не уехала с родины. Как говорится пословица: «Живёшь дома, береги честь рода. А на чужой стороне береги родину». В город или в чужую сторону уезжали те, кто-то чем-то обесславился. А кто живет по человечески, он всех знает и его все знают. И поэтому ему всегда ото всех хвала и уважение. Возьми сейчас пример. Вот и на заводе, кто все время работает на одном месте, ему тоже почёт. А кто труженик, ему везде уважение. А лодырей никто не любит.
1937 год.
Вот стали колхозники к мужьям ездить на зиму в гости. Приедут, да рассказывают, как хорошо-то в Ленинграде, какой Невский. Вот мы и думаем — неужели мы никогда не увидим, что такое за Невский. Все почти переездили, а мне всё нельзя. И некому меня заменить.
В 1937 году я родила двойню, сына Александра и дочь Тоню. Ну они мало жили, девять дней и умерли оба в один день. Я была замучена работой. Весь колхоз на мне и дома всё хозяйство. Я их месяц не доносила. Работы было очень много. Была дурковатая. Надо было дать наряд рабочим, да и отдыхай. А я думала, всё одна схвачу, и всё мне надо было. А вот сейчас-то и вспоминаю, какая же я дура была, зачем так работала. Кого я удивила? А всё на похвальбе была зато. Сейчас и сломалася, вот и села безо время. Кто работали через ножку понемножку тот и сейчас здоров.
Ребята мои ещё малы. Коле десять лет, Ане семь лет, а Пете четыре года. Опишу о Пете. В четыре года он ходил один на повить писать и в теми. Бывало, спросишь: «Ты куда?» И он скажет: «Писать» и один в теми идет. Был такой не боязливый, молодец. А тоже рос смирный. Его все ребята забижали. Он никого и никогда не обижал.
Придёшь, бывало с работы, а они все меня ждут ужинать, да все и уснут. Ноги грязные, все переколоты до крови. А мне все некогда. И когда иду, ждут, как мама раздевается, то-то они радовались. Всё на столе — хлеб, ложки, чашки. И кринки все по лавке расставлены, только корову дои. Корова была хорошая, много доила.

фото из семейного архива Травниковой В.В.
В 1937 году муж приехал в отпуск. Как раз я при нём и родила двойню. Он и хоронил их. Когда я родила, муж пошёл к председателю, нет ли водки, надо угостить бабку-повитуху. И такой был стеснительный, что ему было стыдно сказать, что мол двое родились. А сказал, что жена сына родила. А жена председателя спросила,- кого Дуняшка родила. Он сказал, что дочку. И шла конюх на конюшню, и спросила,- кого бог дал? А он ответил: «Всего надавал». Ну не дурак ли был? Вот и гадали на деревне. Один говорит сына, вторая — дочку, а третья — всего бог надавал. И стесняются ко мне придти,узнать, в чём дело. Ну вся деревня всё узнала. Пошел муж в сельсовет и записал одного сына. А потом пошел к попу, окрестить надо, и говорит «Батюшка, жена родила, приди окрестить, да двоих, хотя я записал одного в сельсовете. Можно будет?» — «Можно, можно»- говорит поп и пришёл поп на дом и окрестил. Попа угостили. Они тоже любили выпить. Так что, этих ребят нет в живых. А то бы и сейчас вспоминали этот анекдот. Вот какой был у меня муж. А ведь, не дурак. А какой стеснительный, хуже дурака.
И вот, мне дали отпуск месяц. Пока нашли заместителя мне, как бригадиру, осенью, я стала проситься в Ленинград на 7 ноября. В колхозе всё сработали, с полей убрали и меня отпустили.

Довоенный Питерский снимок.
фото из семейного архива Травниковой В.В.
Поехала я к мужу в гости 4-ого ноября, приехала 5-ого на праздник. Мужу послала телеграмму. Ой, что было, не описать всего. Надела я зимнее пальто, у меня было на белом меху пальто. И мужу взяла зимнее пальто. Вот поезд-то подошёл, да как свистнет, ещё в Антропово. А я так назад и попятилась от страха подальше, полезла я в вагон, а сумки-то тяжёлые. Я на коленку-то встала на ступеньку-то, и никак не встать. И народ-то задерживаю. Кричат:- «Полезай в вагон!». А я ни с места, не встать. Вот мне подали руку и подняли меня в вагон. А кто меня провожал, я не попрощалась, поезд уже пошёл. Иду в вагоне и жду, где же сесть, смотрю, где свободное место, везде узко. Ну, ладно, еду сутки. Вот говорят, скоро Ленинград. Да как я заволновалась,- если муж не встретит, куда я пойду, не знаю. В одном вагоне столь народу, даже ума не хватило спросить. Ну вот одна старушка меня спросила: «А какой адрес, куда едешь?» Я сказала: «Апраксин переулок». Тогда она меня и успокоила. Говорит: «Не волнуйся, я тебя провожу».
Вот приехали, вышла из вагона. Всех встречают. А мой непутевый, меня и не встретил. Вот так, спасибо этой старушке. Пошли мы с ней, она помогла, сдала я вещи в камеру хранения. И пошли пешком. Она жила на Фонтанке. Я ей помогла нести вещи. А потом пошли к нам. Пришли к нашей комнате. Только стали стучать, вот муж-то и бежит, весь перепотел. А меня не встретил. Он был на вокзале. Сказали, что поезд опаздывает на столько-то часов. Он и пошёл домой. А что бы посидеть на вокзале. А когда он пришел во второй раз, то поезд пришёл раньше. И вот так получилось нескладно. Я уже на него рассердилась: «К лешему и с Питером». Настроение сломалось. Ну поехали с ним за багажом. Я привезла большое ведро грибов, рыжиков, да груздей. Да целого барана. Вот стали варить суп на плите. Пережгла я все руки, суп из кастрюли бежит, весь взвар сбежал. В деревне-то нет плит, а русская печка. Не надо тряпку прихватывать, а ухватом.
Ладно, пришел праздник. Пошла к брату в гости (Ивану Константиновичу). Брат жил на площади Труда. И прошли по набережной Невы. Пароходы стоят, все наряжены лампочками. Горит везде: «20 лет, 20 лет». Красота! Вот я и думаю: «Вот где рай-то, да царствие небесное!». Не наглядеться. Как всё хорошо!
Пришли к брату в гости. Поставили на стол селёдочку, колбаски, картофеля немного. Пирога испекли, а пирог-то тоненький. Я взяла пирога кусок, когда выпили и закусили. А мне мало. Я второй взяла, мне тоже мало. А третий-то брать стыдно. И пошла я домой голодная. В деревне-то поставишь чашку студня, да мяса с картошкой, огурцов полную тарелку, грибов груздь к груздю маленькие, да крупник весь в масле. Накормишь хоть двадцать человек, а хлеба-то нарезали тоненько, раз кусил и нет.
Пошли мы к другому брату. Там еще чище, совсем есть нечего, только выпить, да закусить. Ну мы из еды ничего не брали, а без поллитра не ходили. Вот я опять голодная. Домой пришла и говорю: «Иди, купи булки, я есть хочу». А он говорит: «Ты же в гостях была?»
Потом пошли к соседке в гости. Она недавно приехала жить из деревни. Вот та ставит тарелку супа, картошки сковороду, огурцов и селедку, колбасы много и сыра. И хлеба нарезала не так, как блинчики. А нарезала сукроем, по деревенскому. Выпили и она мне говорит: «Дуняшка, ешь, ты не стесняйся, а то ведь голодная будешь. Я, говорит, приехала первый раз и везде была голодная. Здесь мало едят, не как в деревне». А я тогда ей и говорю всю правду , что я была, в трех гостях и везде не наедалась.
К нам стали приходить соседи, ведь к Макарову жёнка приехала. Я ставила картофеля и тарелку грибов. Вот выпьют, да прихваливают: «Вот грибки-то хороши». Да за неделю ведро-то и опиздячили, то есть съели. А когда барана варила, то придут, бывало на кухню и говорят: «Да, мяско-то деревенское». И не один раз говорили. А я мужа спросила: «А почему они знают, что мяско-то деревенское?». А муж сказал:- «Поживёшь и узнаешь, поймёшь». Живу, варю. И когда мясо стало всё, то я пошла в магазин за мясом. И гляжу, плохого взять, подешевле брезговаю, оно дохлое. А хорошее мясо — дорогое денег жаль. Вот я и поняла, что такое мясо-то деревенское.
Мясо купи, картофеля, капусты, хлеба, всё надо купить. А дома-то не надо покупать хлеб, картофель, мясо, грибы, огурцы, капусту, лук, да всё своё кроме сахара. Есть, дак есть, а нет и не надо. Мы привыкли к холодной воде и без сахара.
Поехали мы с мужем к сестре в гости, в Ивановское (к Пане, она с мужем приехала из Костромской сюда жить под Ленинград). Муж взял меня под руку, а я: «Что ты? Зачем, мы ведь не молодые. На нас глядеть будут». И пошли так. И вот подошли к Московскому вокзалу и гляжу, мужа нет, куда делся, не знаю. Спросила я одного, который на вид самостоятельный: «Как мне пройти на Московский вокзал?». Он мне сказал: «Зайдите слева». Ну я ему не поверила. Спрашиваю другого. То же самое отвечает: «Зайдите с Лиговки слева». И думаю, как бы обратно уехать в Апраксин двор. Где остановка не знаю. И пошла я к милиционеру. А он мне машет рукой, не смей сюда ходить. А на площади Восстания ходили трамваи, по Лиговке и по Невскому, крест на крест. И он махал, кому куда ехать. Вот я встала к столбу, где фонари-то горели, да где я потерялась, и стою в сторонке от народа. Вот муж и бежит, весь мокрый, пот с него градом льёт. «Где ты была? я весь вокзал обегал, все кассы, нигде тебя нет, сейчас поезд пойдет» — это он мне.
А я ему: «Пошел ты к лешему! Я никуда не поеду, дай мне денег на трамвай». А он меня тащит, как пьяную, а я нийду. Ну он был сильный, меня смог и утащил. Вот сели в вагон, я ни слова, молчу, и он молчит. Приехали к Пане в гости, выпили, и вот мой муж начал рассказывать, как мы ехали. Смеху было полно.
Я долго не понимала как трамвай ходит. Мне всё казалось, что в одну сторону. Вот я поехала одна на Красную улицу. Муж посадил меня на трамвай и сказал остановку — площадь Труда, и рассказал, как дальше идти до дома братки. Я приехала до этого места, слезла и пошла. Прихожу, а братова жена и спрашивает: «Ты одна?» Я ответила: «Одна». «А как же ты нашла?» А я сказала: «Сестриченька, я по колоде». Когда я с мужем была, то мы стояли от ветра у той колоды, ждали трамвая. И она смеется: «Где же там колода? я десять лет живу, а колоды не видела». А я её уверяю, что колода крашеная, голубого цвета. Ну я у их ночевала, а утром меня невестка пошла провожать. Подходим к остановке и смотрю:- «Ой! Сестриченька, это ж ларёк, а там армяшка торгует шнурками, гуталином». Вот тебе и колода. Насмешила я всех.
Надоел мне Ленинград. Меня отпустили на три месяца, а я нажилась в один месяц. Как бы скорее домой. Дочь Аня ходила в школу и Коля. Как там с ними кока справляется. Провожай меня домой, говорю. И вот я пожила ноябрь и декабрь и больше на стала. Ходила я за капустой и облила рассолом пальто. Провались всё, как мне было жаль его. И я собралась домой, написала письмо, что я еду. А ребята пишут:- Мама, тебя все ждут, хотят тебя в кладовщики сажать. Я спросила мужа:- Что же мне делать? Браться или нет? И он сказал:- Сумеешь, берись, а не сумеешь, не берись. Ты сама больше знаешь. Вот так и думай сама. В Ленинграде меня ничего уже не интересовало, ни Невский, ничего. Да, раз пошли с мужем в кино, Чапаева смотрели. Как конница-то бежала прямо на нас, я как вцепилась в соседа. А муж сидел как-то слева, а я справа. Да как крикну. Ну и было тоже смеху досыта.
Я собралась домой 5 января 1938 года и приехала домой в самое Рождество, 7-го января. И говорю себе, что я так соскучила по ребятам, и нагостилася, и насмешила, и хватит. И больше я никогда не поеду. У меня голова болела, всё время, пока я жила два месяца. Сплю и всё спать хочу и не высыпалась. И сказала мужу: — «Вот вырастут ребята, бери их с собой и устраивай на работу, а ко мне будешь в отпуск ездить».
1938 год.
Где дети там и материнское сердце. Приехала я домой, а снегу-то много. А в Питере снегу я не видела, жила в центре города, да на улице темно.
Приехала, радости полно. А рассказов, кто что рассказывает. Кока на ребят жалуется, что не слушались. А ребята на коку, что она нас не кормила. Вот и разбери.
Как я прислала телеграмму, чтобы встречали, и сразу же назначили собрание к моему приезду. Я повела коня на конюшню, а мне уже сообщили, что тебя хотят выбирать в кладовщики. Я иду с конюшни, а меня уже караулят:- Зайди на собрание. Спросили, как погостила. Я не шла на собрание, говорю что озябла с дороги. Ну говорят, мы тебя не задержим. Только вопрос таков, хотим тебя выбрать в кладовщики. Я — Нет, нет, я неграмотная, насижу себе тюрьму. А за столом сидят уполномоченный с района, агроном, председатель сельсовета и наш председатель колхоза. Ну на меня не поглядели, что неграмотная, а выбрали на голосование. Все подняли руки, а которые обе руки. Я ни в какую, что я насижу беды. А мне в ответ:- Не пойдешь в тюрьму, мы тебе все доверяем, ты домой не понесешь, выбираем Макарову. Вот я иду домой, а соседка, рядом жили (тетя Паня, она сейчас на Невском живет) кричит коке в окно:- Тетя Паня, поздравляй свою невестку, в кладовщики выбрали. Кока заругалась:- Ты никогда дома не живешь.
А чтоб ей жить со мной, нет не хочу в колхозе. Конечно, я жила хорошо, муж присылал много, и я взялась в кладовой работать. Вот, с меня бригадирство сняли. А кладовые принимала, будто кладовщик хлеба унёс, и клеть была не заперта. Вот по этой причине и сняли, пока я в Ленинграде была. Начала я работать, боялась как бы всё было правильно и всё точно. А потом вошла в такое доверие, вези хоть воз хлеба. Ну я не брала. Я была и так сыта и одета. Работала честно. Ну колхозников не обижала, кому есть за что. И кладовщиком мне лучше нравилось, много спокойнее. Только переживала, чтоб мышей не впустить, да сырой хлеб не загорелся бы. А бригадир — это собачья должность.
Все стали лучше жить. И беседы справляла молодежь. И праздники делали хорошие. У нас праздник был Введеньев день, 4-го декабря и Спас Преображенья 19-го августа. И за ягодами ходили, и песен много пели. Вот, помню, такую пели, когда пошли колхозы:
В колхоз пошла, юбка новая. Из колхоза пошла, жопа голая.
Всё колхозы, всё колхозы, записались все в колхоз,
А осталось от колхоза не пришей собаке хвост,
Я иду мимо колхоза, а колхозники сидят,
Они острыми зубами кобылятину едят.
Шла корова из колхоза, задери Арина нос.
Отрубите хвост по жопу, не пойду больше в колхоз.
Бога нет, царя не надо, всех угодников в кабак,
Приезжала Божья матерь дезертиров забирать.
И вот, пришло лето. Нового бригадира выбрали. Она считать умела, но лодырь страшная. Спала, уже когда колхозники разбудят. Все стали недовольные. Когда яровую отсеялись, и меня опять в бригадиры стали просить до осени, до нового урожая.
Вот куда мне было, трудно трудодни девать. Тридцать трудодней кладовщик, да тридцать трудодней бригадир. Если бы были золовки дома, только бы пришли, да ушли. Я же перерабатывала. Все косят и я косила. Я взяла и бригадирство. Еще надо было кого-то выбирать заведующим фермы. А у нас еще мало было скота, овцы, коровы, нетеля. И опять меня выбирают. И вот, как-то пришла повестка в сельсовет явиться на собрание председателю колхоза, бригадиру, кладовщику и заведующей фермы. И я пошла с председателем колхоза Осокиным. Пришли, сели, нас записывают:- Колхоз Жданов, председатель здесь? Да, здесь, Осокин. Бригадир здесь? Здесь. Фамилия? Макарова. Кладовщик здесь? Здесь. Фамилия? Макарова. Заведующий фермой здесь? Здесь. Фамилия? Макарова. А секретарем собрания был Михаил Антипанов, он и говорит:- Так что же ты, Осокин, весь колхоз на Макарову взвалил? А он:- Да, я бы и печать отдал, да не берёт! Вот так всё и было.

Фото их архива Петровской библиотеки.
Сколь надо было пережить. Я ходила нарядная, муж прислал мне очень много кофт да свитер шерстяной. Я на каждое собрание одевала, новое. Ну было зло и ненависть. Кто-то жалел, меня, что сирота. Бог счастья дал, муж хороший. А кто-то другое творил. Раз я развешала белье на мороз зимой, и много белья перерезали. И у тети Пани тоже (которая сейчас живет на Невском). Ну у неё-то разрезали что не нужно ей было. А я так думаю и сейчас, это она сделала. Она такая завидущая, только бы было у неё.
В 1938-ом году я родила дочь, Тоней звали. Очень была девочка хорошая, лучше всех. А почему лучше? Дак вот почему — она была у меня седьмая дочь. И такая была ненаглядная и умная. И как на ту участь росла, что мало поживет. И мне старухи говаривали — будет ли жить, больно у неё ум не по возрасту. Она умерла по третьему году. Она простыла. У неё было воспаление легких. Я её не свозила в больницу, ничего не признали. А на завтра в сутки она умерла.
Да, по правде сказать, я была большая дура. Не умела ценить мужа, не умела беречь детей и не сумела сберечь свое здоровье. А сейчас и хорошая жизнь, да все поздно. Всегда было некогда, всё бегом. Зачем надо было весь колхоз держать? Лучше бы было лишний час дома уделить с ребятами. Шила всё по ночам. Днём в обед скрою, а ночью сошью. Не только себе, и людям шила. Тоже, Христом богом просили, сшить.
1939 год.
Наш председатель задумал уехать в Ленинград. Документы выправил всё в порядке. А из колхоза никого не отпускали. Ну тут всё было сделано. И вот сделали собрание. И что же? Опять меня выбрали в председатели, опять все на голосование, единогласно прошла. Назначили другого кладовщика. Завтра делать ревизию.
Подали мне печать и чековую книжку.
Я иду домой, а коке уже сообщили: Вот мол еще повысили должность. Я пришла домой, а кока говорит:- Что ты делаешь? Такие дети малые, ты насидишь тюрьму, и ребят оставишь. Правда, сажали в тюрьму, ну за какую-то причину, а я ведь честно работала. И вот, я ночь ночевала председателем колхоза. Пришла утром в правление, там меня уже ждали. Я и говорю:- Вот вам печать и чековая книжка. Я работать не буду, у меня четверо детей и золовка уходит от меня. Я не могу ездить в район. А председателя часто вызывали в район. Вот так и не стала председателем, и работала кладовщиком.
Бригадира нашли, и заведующую фермой тоже нашли. У меня стала одна должность. Да, ведь, и незаконно, кладовщик и бригадир вместе. Этого не должно быть.
Ребята подрастали. Коля ходил в школу и Аня. А Петю с Тонюшкой оставляла. Няньку я не нанимала. Скотина была — корова и овец было много. Налоги также платили: молоко, мясо, яички, картофель, шерсть с овцы и ягнят, и облигации навешивали. Придут с района и сидим день на собрании. Никто не подписывается, денег нет. Налог самообложения, страховка, да еще облигации. Очень трудно было. Ну как налог на молоко, так всех тяжелее. От малых детей отдай всё молоко, а чем ребят кормить? Ведь надо было отдать триста литров, да на жирность еще сотню. Очень тяжело жилось тем, у кого не было промышленника в доме.
В колхозе стало хуже. Поставили председателем другую, но ненадежную. Она была рада, что её выбрали. У неё тоже было двое детей. Она их оставляла одних и ехала куда ей было надо, где до делу, где не по делу. Где питерщиков привезет, всё копейку заработает. Лентяйка хорошая была. Не годилась она на эту работу. Ну и не много она посидела, её сняли. Поставили вторую женщину. А мужики все довыгреба уехали в Ленинград. И колхоз стал рухнуть, рабочая сила разъехалась.
1940 год.
Вот новое постановление прислали. У кого маленькая деревня, то идёт на снос. Чтобы было не менее пятнадцати домов. Не знали что и придумать. И вот наша деревня Игнатова пошла на снос, у нас всего было шесть дворов, да и деревня в стороне. И вот одна уехала к племяннице жить, вторая, к дочери, третья, к сестре, а двое в Ленинград, у них было по одному ребенку. А я сама пятая. Куда поедешь? Я лето прожила дома. Одна в деревне жила. Ко мне тогда воры лезли. Ну запоры были очень крепкие. Лезли во двор. Я услышала шорох ненормальный и думала корова, может, рогами в яслях засела. Зажгла фонарь и на двор. Корова лежит, всё тихо. Только снова легла, слышу опять шорох. Тогда я опять пошла в горницу на повить. Взяла два чемодана хорошего и поставила на палати. Я чувствую — кто-то лезет, у меня и сон пропал. Время было двенадцать ночи. А топор был в избе. Если полезут в окно, думаю, буду топором по рукам рубить. Опять легла, а уже не уснуть, сон пропал. В окошко боюсь глядеть. И вот они во двор не попали, и пришли к избе за лестницей и стали лестницу брать. А муж мой лестницу-то прибил гвоздями к крыше, чтобы ребята не уронили. Вот они как дернули лестницу-то, так простенок и затрёсся. Тогда я встала, огонь зажгла во весь свет, и сама от окошка подальше. Кто знает, может с ружьем. Ну так и ушли, не влезли. А ведь слыхом земля полнится, что мол хорошо живет, да и кладовщик, мол всего есть.
На другой день утром ко мне заходит наша колхозница и говорит: «Дуняшка, ты жива? Ведь Шурку-то мою обокрали». А её Шурка жила от меня в одном километре от деревни. И дом её был с краю. И у ей открыли двор и увели корову. И она с печки увидела, как они фонариком осветили. И она из окошка выскочила, да в деревню. А погода-то была, немножко снежку напорошило. Ну корову нашли.
Ну напугали меня очень. После этого я не спала две ночи, а на третью ночь так уснула, хоть по бревну, разбери весь дом. Мне стало боязно, ребята малы были. Я стала переезжать в деревню, в пустой дом, хозяева уехали в Ленинград. А переехали опять в Алешково. Дом был неустроенный. Тогда я стала мужу писать — надо еще покупать дом в деревне. А он мне пишет, что всё надоело, сколь можно строиться. Приеду и увезу в Ленинград. А в Ленинграде с жильем было плохо и он устроился под Ленинградом в колхоз, где жила моя сестра Паня. Как Тонюшку похоронила, у меня осталось трое детей и все уже большие, четырнадцать лет, одиннадцать лет и семь лет.
1941 год.
Вот я и отжила. Приехал муж домой и говорит:- Поедем в Ивановское (под Ленинград) к сестре Пане. Как у меня сердце забодело, чего с собой-то брать. Всего-то ведь, не взять. Продали корову и овец. Свезла я два воза к тетушке, воз хлеба и воз добра на сохранение, а домашнюю посуду соседу пока. С собой взяла чемодан нешитого. Подошла я к сундуку, и стою и говорю:- Не знаю, что делать. От одного берега отстану, а как к другому пристану. Сердце так болит. Ведь я дома-то всему хозяйка, и в колхозе. А как я там буду? Я дома-то умею жить, а там я не умею. А муж и говорит: Ну, чего бояться? На деле покажет, научишься и там.
Вот поехали в феврале месяце 1941 года. Ну, у сестры было две комнаты маленькие. И думали так, что возьмем лесу и поставим дом вместе и строить на два хода. А жизнь-то по другому. Взошла я в колхоз, меня сразу взяли, документы у меня хорошие.
Отработала я три месяца и война. Вот и вся моя жизнь кончилася. Надо бы сразу домой ехать, а я думаю,- пособеру урожай-то и уеду. Мне в Ивановском не нравилось. Всё куплено, хлеб и картофель. А коровы-то не было. Деньги шли как вода, а нас пять человек. А в колхоз пришла, я новенькая. Куда хуже, где тяжелее, там и меня посылали. Я была очень здоровая, мне было тридцать четыре года. Я была в силе, и никакое дело из рук не валилось.
Как посеяли яровую, все посадили огурцы, и 15-го июня поехали гулять в Ленинград. Хороших работников отобрали и всем премию дали. Вот пошли сразу в кино, потом в ресторан. А вечером в театр, в Пушкинский. Я гуляла одна без мужа. Ему тоже дали билет, а потом отобрали. Один партёйный был, а ему не дали билета. Так что правды не было и нет, и никогда не будет. Так и я приехала новенькая. Колхоз был овощной, расценок я не знаю, работала на благо святых. Вот, 15 июня отгуляли, а 22-го июня Война. Очень глупо я сделала. Надо бы сразу ехать домой. И сын был бы жив. А я сразу не поехала, а потом ребята заболели, Петя и у сестры дети. Какой-то черной оспой. И всех их увезли в Боткинские бараки, в заразное. За день до прихода немцев. Петю и Миньку (сестрин сын с 1929 года) домой привезли. А Лиду и Тамару (младшие сестрины дочери) оставили на два дня, и так их и не привезли.
Пока не было немца, то пригнали к нам солдат урожай собирать. Всё начальство сбежалось:- Копайте картофель и морковь, снабжайте Ленинград. Я была бригадиром. Как бригадира взяли на фронт так меня и поставили. 27-ого августа очень много тонн сдали и погрузили на баржи. А нас хотели увезти на барже тридцатого августа.
А 28-ого августа немец захватил наше село. И стались мы в плену, никуда нам не уехать. Пришла беда — мужа ранили. Он был на оборонных работах. Снаряд разорвался на поле. Их стояло девять человек, кого на смерть, кого ранило. Вот его ранило в ногу и в лицо.
Когда немец пришел мы все в подпол забралися. И боимся вылезать, что сейчас всех перестреляют. А потом один из ребят вылез и поглядел в окно. А там наши колхозники стоят и с немцем разговаривают. Им переводчик рассказывает: — Идите в лес на три дня. Через три дня Ленинград возьмем и все домой придете. И будете жить по новому. Мясо, молоко, яйки не будете платить Сталину, всё будет хорошо.
А мы в лес не пошли, а на Неву. На Неве стояли штабеля с тёсом. Мы там сидели двое суток. Сидим под тёсом и глядим, как горели катера. И подошел пассажирский пароход. Кто шел в Ивановское, того не били. А кто поплыл через Неву, тех стали убивать. Четыре катера сожгли. А потом в пороги зашел большой пароход и не дошел до пристани, завернул обратно. Не знаем, его расстреляли или нет.
И вот, после двух суток мы пришли домой. А к нашему дому подъехала машина. Да как из-за Невы наши стали стрелять из пушек, мы опять все под пол. А нас было десять человек, я пятая и сестра тоже пятая. Как дал снаряд в простенок, так и пробил его. А нас всех пылью засыпало, не вздохнуть. А как ещё дал снаряд, да прямо в сарай. Панину корову убило, так на части и разлетелась. А мой сарай цел остался и корова цела. Вот, как бой затих, мы сразу пошли в лес. А ведь так напуганы, все стали как ненормальные. Всего боимся, вот сейчас убьют. Взяли корову на верёвку и повели в лес. Ещё взяли ведро, кастрюлю, чашку и всем по ложке, топор и одеяло. И на всех надела новую одежду и новые сапоги. Пошли в лес 1-го сентября 1941 года. Ещё взяла мешок нешитого и стали его менять на жмых, на картофель. В лесу сидели и ждали, когда Ленинград возьмут.
А когда пошли мы в лес, то нас из-за Невы заметили, да по нам стали бить. Как снаряд разорвался, так меня и корову прямо в канаву отбросило, и корова на меня упала и все лежим. А второй снаряд не упал на это место, а вперёд на несколько метров. Примерно метра четыре или пять, не больше. И вот пять снарядов подряд разорвались и больше не стали бить. Мы встали и пошли. В лесу там столь наделано окопов, весь лес изрыт. Да, всё строевым лесом, да два ряда накат, чтобы снарядом не пробило. И мы стали копать окоп. Сидим в окопе и ждём у моря погоды. Тоже дураков было много. Кто умный-то, сразу ехали дальше в тыл от фронта. А мы сидим. Утром бою нет, мы бежим на поле за картофелем. Накопаем, сколь унести, да опять в лес. А вещи мы все спустили подпол и закрыли. А шкаф, я повернула зеркалом к стене. Так и сестра сделала. Все вещи, и обувь, и посуду, и кровати всё спустили в яму. Яма-то большая, картофель хранили по зимам. И вот наше поле всё прокопали за неделю. И капусту и морковь. Всё выкопали.
А сколь было населения, что осталось за немцем. Отрадное, поселок было десять тысяч население, да Пелла, да и Ивановское. И все на наше поле. Многие-то работали в Ленинграде, а жили здесь и кормилися городом. Когда я пошла в лес, поросенка оставила дома. Дала ему корму, думаю-посидит дня два, а потом зарежем. Да и соли-то нет, тепло. Вот иду утром, он кричит. И опять надавала ему корму, и опять в лес. И говорю мужу:- Надо завтра резать. А куда мясо-то девать? Ничего нет,- ни соли, ни кадки. Вот идем домой, а уж поросенок не кричит и сарай открыт. Немцы его зарезали. Мне и говорят, что живым его тащили по большаку.
А когда собирались мы в лес, то я закопала картофеля в яму восемь мешков со своей усадьбы. И ту нашли и вырыли. И мы остались безо всего. Живём в лесу день, неделю, месяц, а Ленинград всё ещё не взяли. А наше село каждый день всё горит и горит. И за месяц всё село сгорело. Прожили в лесу два месяца, сентябрь и октябрь. Окопы были хорошие, ну стало холодно.
А наши солдаты осталися в лесу, в плен не сдавалися, а к нашим им не попасть. Придут к нашим окопам, дадим картофеля и говорим:- Ребята, только у окопов не находитеся, а то нас всех убьют. Вот они стали убивать немцев. А немец обозлел. И нас всех из леса выгнал, чтобы за два часа очистить лес.
И приказали нам всем на торфоразработки в бараки уходить. Мужиков забрали на работу, а я осталася с ребятами, мужа взяли, хотя и ранен; был. И вот я и домучилася перевозить вещи. Да сын Коля помогал. И оставить жаль и нести силы нет. Я отнесу сто метров, да вернуся за другими вещами. У одних узлов Аня сидит, а у других Петя. Вот так и таскала, и весь день с утра до ночи. Кто раньше пришли на поселок, тот занял место получше. А нам, что осталося. Не было ни одного стекла. Стали торфом все стекла закладать. А плита-то была. Стали топить и варить картофель, все есть хотим. А хлеба два месяца не видели куска. Да, вот и картофеля не стало. Осталася на поле хряпа из капусты, и ту стали собирать. И той не стало. Стала я ходить менять вещи на картофель, километров за двадцать. Шапки да Нечерпит, Жожжино, Кирсино,- вот эти деревни были сытые. Они урожай сами собрали и себе. А нас, с Ивановского много, и все пошли менять. И там не стали нам менять.
Узнали мы бойню немецкую, где лошади были убиты, где и сдохли. Вот, мы конину стали есть. А в тыл ехать — закрыли проезд, нас не пропускали. Немец нам ничего не помогал, а всё отбирал. У многих отобрал коров, ещё в лесу жили. А я, как на поселок пришла, так у всех отобрал коров. И у меня отобрали. Ну был староста, ему доверили резать. Вообще, не знаю, может сам староста и взял корову. Мы её увели в лес, и он её зарезал. И мне дал немного мяса. Вот тут-то, без коровы стало голодно.
А моя сестра Паня всё жила в Ивановском. Там сделали окопы и много семей жили. Ну, когда всё село сожгли, то она стала проситься к нам на поселок. Я приехала к ней на саночках,- снегу уже накутило. Положили её вещи и повезли. У неё было при себе трое детей,- сыну одиннадцатый год, да сыну два года и девочке два месяца. А две девочки остались в Ленинграде, семь лет и три года. Когда её везли, мы свои саночки довезли до дома. А муж её, Михаил, не смог везти. Оставил всё на дороге и пошёл напорожняк. У него признавали язву и он на фронт был не взят, у него был белый билет.
Когда все были дома, Паня говорит:- Надо завтра сходить за остальными вещами, что на дороге оставлены. Ну договорилися все помочь. Нас в комнате жили двенадцать человек, а комната была пятнадцать метров. Утром встали. Я проснулася первая и говорю Пане:- Я очень плохой сон видела, всё к покойнику, а мне слезы. Сегодня пятница и праздник Михайлов день. Это было 21-ого ноября 1941 года. Я боялася бомбежки. От снаряда можно спастися, ну от бомбы не спасешься. И сердце так и ныло. Даже так, как будто сейчас что-то случится. И за полчаса до расстрела сестра и говорит мне:- Расскажи мне сон ещё раз. Я рассказала, она мне и говорит:- Твой сон такой,- меня убьют, а ты будешь плакать. У меня,- она говорила,- так сердце болит, мне войну не пережить. Вот её слова последние. Перед самым расстрелом она сказала.
А я такой видела сон. Стою я под горой у худой ржи. И летят немецкие самолеты и с таким визгом. Я испугалася и упала в эту рожь. И лежала, до тех пор , когда они пролетят. Когда самолеты пролетели, тогда я встала и пошла в эту гору. Взошла я на гору и гляжу,- как наехало народу на наше колхозное поле. Пашут, сеют и боронят, и так быстро заборонили. И подходят ко мне два немца. А я им и говорю:- Ах, батюшки, что это делают, всё наше поле запахали. Куда же наши колхозники поедут. А немец мне и говорит:- Куда хотят, туда и едут, раз не подчинилися закону. А я им говорю:- Возьмите меня в колхоз. А немец сказал:- Иди. Потом меня немец и спрашивает:- Который час. Тогда я вижу, у меня на груди золотые часы. Я открыла часы и говорю:- Одиннадцать часов. Потом я вижу,- у меня на правой руке золотой браслет и я проснулася. И сразу же рассказываю сон. А сон был на пятницу и в Михайлов день. А праздничный сон сбывается до обеда. Я и говорю:- идёшь в гору — к горю. Рожь,- это ложь. Пашут, сеют и боронят,- это к покойнику. Золото — к слезам. А одна говорит, Стешей звали женщину:- Я снам не верю ни каким, наедимся конины, мол, всего наспится, пойдемте. Ну раз, чужая идёт, а как же я не пойду помочь родной сестре и пошли. Ну сердце разрывалося. А я сказала Коле:- Не ходи ты, я одна пойду. А он мне сказал:- Нет, мама, я когда с тобой то у меня и сердце спокойнее. А когда я один, то нигде места не нахожу. Вот и пошли пять человек из комнаты я, Коля,
Паня и Стеша с племянницей. И на улицу вышли еще пять человек, они пошли с нами. Пришли мы в деревню Захожье, на улице ни души нет. Одна женщина говорит нам с крыльца:- Куда вы идёте, нельзя ходить. Немцы злые, партизаны убили двух немцев ночью. А приказ был таков, за каждого убитого немца расстрелять десять человек русских. Ну расстреливали до этого мужчин, а женщин и детей не стреляли. Ну мы пошли. И тут, как тут, немцы. И они стали по нам стрелять. Паню, сестру, первую убили, она впереди шла. Только сказала:- Дунюшка, прости, я убита, милые мои деточки, осталися вы несчастные. И больше я её не слышала. Сразу все упали. Второго Колю:- Мама, я убит. Мама, спасайся ты, у тебя Нюшка с Петей есть! А я обняла его, да и говорю:- Коленька, поползем в канаву, я тебе рану-то перевяжу. И как еще пуля в него попала и мне в руку (а нас били разрывными пулями) он повернулся вверх лицом, а у него и губы посинели. И говорит:- Мама, мне пять минут осталось жить, ты-то спасайся. А пули летели без останова. Одна говорит:- Дуня, я убита. Вторая тоже:- Дуня, я убита. Как будто все со мной прощалися, что я останусь жива. И потом в меня ещё пуля, прямо в живот, пчик. И я сразу же схватилася, тру рукой. А ничего не больно и крови нет, а стукнуло. И я поползла в канаву. Перекрестилася и говорю:- Михаил Архангел, должна я по сну жива остаться. И лежу. Потом подняла голову и гляжу,- одна раненая женщина сидит, а к ней идут два немца. И она их просит:- Убейте меня и моих детей. У ней была девочка грудная, три месяца. А вторая пять лет. Эта девочка подбежала ко мне. Ее ранили в руку, всё пальто разорвало в плече и из рукава-то кровь льется. А у матери пуля в спине. Потом немцы подходят ко мне, а у меня тоже из руки кровь льет. И немец не стал эту женщину убивать и меня. И погнали нас в лес по дороге:- Идите, мама. А я прошу:- Пустите меня, там сын. Не пускают меня. Я опять прошу:- Сын, сестра, пустите. А они:- Никс понимаем, капут. Так меня и не пустили. И повернул меня немец назад, да как даст под зад коленкой, да и выстрелил вверх, если ты мол не понимаешь его слов. И подходит ко мне эта раненая женщина, вся черная. Я и говорю:- Шура,- ты вся чёрная. И она мне тоже говорит:- И ты вся чёрная. Я завязала руку и взяла её ребенка. А она едва шла, и девочка шла.
Пришли мы в Ивановское двое, остальных всех убило. Я повела её в больницу- на Пеллу и говорим:- Нас немцы стреляли и нас выгнали. Потом стоим на улице, подходят к нам русские. Глядят на нас, в чем дело? Мы рассказали. И нам они и посоветовали — Вы идите во вторую больницу, указали куда, да не говорите, что немцы вас били, а говорите — партизаны вас били. Мы так и сделали. Пришли, сказали, что нас партизаны били. Её взяли, а я пошла. А чтобы спросить,- с какого она года и где жила? Ничего не спросила, и ума не было. И сама жить не думала. Жива ли она, ничего я о ней не знаю. Муж у неё был на фронте и у неё была рация, которая всё слышит. Это попало к немцам.
Я пришла в Ивановское, там жили в окопах. Я была голодная. Как говорится пословица, что горе горюй, а хлеба не минуй. Дали мне кусок жмыха да картофину. Я легла спать. Только глаза закрою, и мне уже снится,— идут Паня и Коля. Я сразу же вскакивала и пугала хозяев, где я спала. Только опять засну и опять вижу:- Коля ко мне подходит и говорит:- Мама, не плачь, меня врач хорошо лечит, все раны заживают. И так очень мне часто снился:- Мама, не плачь, мне хорошо. А я по ним три года глаз не осушивала.
Пошла я искать переводчика. Где-то живет в окопе, сказали. Иду я по селу, а дома-то все сожжены, одна Нева. И меня через Неву-то видят наши. Да как начали в меня стрелять, по обе стороны пули летят. А я иду. Вот мне и кричат:- Куда идешь? Нельзя туда идти. Ну я, все же нашла переводчика. Он мне сказал, что скоро будут выселять из Ивановского всех, поживи. И вот, через день приходит староста, немец и переводчик, и говорят:- Послезавтра, в девять утра всем быть на станции Пелла. Это как раз, пятница. Вот я жду. Когда была голодная и в таком горе, и никто ничего не давал. А как сказали, что всех выселять будут, то у всех и всего много оказалося. Они награбили вещей и продуктов и на зиму обеспечилися. Говорят:- Возьми у нас чего надо. А мне ничего не надо, только картофину, голод заморить. Мясо предлагали,- я ничего не взяла. Да я правильно и сделала. Шла так,- пустая. Рука у меня болела. Когда все повезли на санках до станции Пелла, то столь мешков грузили, да еще вёртывалися. Думали их повезут на поезде, а их пешком, да лесом. Саночки ломаются. Вот одна женщина положила на санки четыре мешка добра, а саночки сломалися. И она взяла на плечи один мешок и пошла, а это оставила. А сзади шла немецкая лошадь и немец подбирал вещи. Как там дальше, отдадут-ли или нет, я уже не знаю. Я дошла до той деревни, где нас расстреливали немцы. Сделали перекур. А шли так,- десять человек и один немец. И вот, когда остановилися посередь деревни и я сразу же отошла в сторону, как будто дорогу перешла. Меня и не заметили, никто не крикнул. Так я сразу в сторону. Тут стояли женщины, я заплакала, спросила,- как там лежат тела, хоть бы захоронить. А мне и говорят:- В тот же день всех зарыли в одну яму, но могилу не сделали, так разровняли. Ну я боялася сходить, надо бы посмотреть,- где и как зарыты. Пристрелят и меня. Я пошла домой к ребятам. Прихожу, ровно неделя прошла, в пятницу расстреляли и в пятницу я пришла. Ребята мои грязные, неумытые и полная голова вшей.
Как они плакали от радости. А им сказали, что кто-то жив остался, а кто не знают. Вот, старухи гадали на картах. На меня закинут карты, всё дорога, да слезы. А как на Паню забросят, то всё красная масть. И сказали мужу, что жену и сына расстреляли. и он рехнулся умом и здоровьем. Когда я пришла к нему, он смотрит и не может в себя взойти. Да как заплачет:- Как, ты пришла? Как, ты осталась жива! Мне сказали, что тебя убили. Я плачу по Коле и он плачет, рад, что я жива. Меня уговаривает, что у нас Нюша есть, да Петя. Что же поделаешь, нам бы их спасти. Если бы ты не пришла, то мы бы все погибли. И так он похудал, одни кости у него были и волосы из головы все вылезли.
А моим ребятам предложили соседи, которые там на поселке жили. Мы их не знали и они нас, чужие. Они и говорят им:- Мы вас будем кормить и менять ваши вещи. А Аня не согласилася, всё ждала, может мама приедет. И вот, я поехала на саночках менять вещи ка картофель. У меня мешок был нешитого. Я меняла и кормилася с детьми. И мужу носила передачу. Их плохо кормили. А потом взяла я костюм мужа и понесла к коменданту, чтобы отпустили мужа домой. А он :- Не гут, не гут. Тогда я взяла десять метров фланели, говорят, что немцы любят теплое и пошла, подаю. И он говорит:- Гут, гут. А потом переводчик сказал, что скоро будет комиссия, здоровым пайка прибавят, а слабых будут отпускать домой.
И вот, я иду через день, подхожу к тому дому, где они жили, и его и ведут два товарища. Он не мог идти. Я его едва довела. Он был в галошах, а валенки не влезали, все ноги распухли. А идти четыре километра, где я жила.. Привела его домой, накормила, вымыла. А у него всё тело в коростах. В войну у многих была чесотка, а у нас пока не было. Я ко врачу, а врач был старостой на поселке. Я ему снесла десять метров коленкору, чтобы чего бы дал полечить мужа. Он взял и дал растирание. Ну и сидел муж дома, а я всё ездила на саночках менять вещи на конину. Картофеля не стало, а конины можно было достать. Была немецкая бойня в Нечерперти деревня. Там и дохлые лошади и раненые. Один раз поехала я со старостой и он хорошо по-немецки говорил. И нам дали целую лошадь дохлую. Лежала она в какой-то избе. Вот, я со старостой давай шкуру снимать и рубить. Он-то взял мягкое место, задние ляшки. А мне сказал,- забирай всё. Ну я и нагрузила санки, едва довезла. Голову и ноги, и шкуру оставила, не довезти. И вот, когда привезла я столь конины, все завидовали на поселке, как она достала столь много.
И стал народ умирать от голода. Каждый день хоронили. И мой зять, Панин муж Михаил, тоже похоронил, девочке три месяца было. Ну эта-то была мала. А Борису три года, здоровый был парень. Он мог бы его спасти. А Минька остался, ему было одиннадцать лет. Вот он забрал хорошие вещи, что мог везти на саночках, и поехал в тыл. А я осталася на посёлке. У меня муж был болен, не могла я ехать. А зять Михаил голода не видел. Он жил в Ивановском и у него яма с картофелем была целая. И они досыта ели картофель и вещи не меняли. А у Пани было два пальто хороших и у него тоже два пальто и другие вещи.
1942 год.
Я уже все-все вещи променяла, осталось барахло. И конины не стало. Стали шкуры из снега выгребать и резать их кусками. И потом палили и варили. Такая студень крепкая получалася, хоть в стену бей и не разлетится. И горячую ели. Я достала шесть лошадиных шкур. За одну шкуру отдала сапоги с галошами. Не давали нам даром-то шкур. Мы выгребли из снега их, а староста пришёл и говорит:- Не смейте даром брать (этому старосте в преисподнию попасть), и мы брали шкуры за вещи. За вторую шкуру я отдала кофту ватную, а за третью — шесть метров ситца. За четвертую- четыре метра сатину, а за пятую — кольцо золотое. Хоть оно тоненькое было, ну не за шкуру бы его отдать. А одна шкура даром досталась.
Приходит и мне конец. Сколь я была не сильная, и то сдалась. Стали ноги пухнуть. А в тыл никого не пропускали. Вот и стали умирать семьями. Вещи все проели. А немец никаких мер не принимает, либо вывез бы из поселка или бы дал работы да паёк хлеба.
И вот, первого марта 1942 года разрешили выезжать, а на станции Саблино не пускали, там патрули стояли. И вот десятого марта разрешили, мы тронулися в тыл. Сколотил муж саночки, положили ведро, кастрюлю, чашку, топор, одеяло, немного белья и пошли в путь. Прошли в первый день двенадцать километров, а во второй день — четыре. И мой муж умирает, больше идти не может. Он тоже стал пухнуть. Я стала проситься к людям ночевать, что мой муж не может идти. А меня не пускают. Говорит женщина:- Нет-, я не пущу, он помрёт, что я буду делать, идите дальше. Пришлось проситься в другой дом. Купила я ему молока литр — отдала комбине. А за деньги купить молоко, то стоило тридцать рублей литр. А где, у нас таких денег нет. Вот и шли мы каждый день по десять километров, да по восемь километров. Прошли мы от поселка семь дней и спрашиваю,- далеко ли мы отошли от Ленинграда. А нам говорят, шестьдесят километров. Оказывается, мы шли кругом Ленинграда. Наша деревня с Московского вокзала. А мы вышли, где идёт дорога с Варшавского вокзала. А ведь, не знаем,- куда идём. И вот станция, помню, Гатчина, помню Сиверская, Дивинская, Луга. Это всё пешком шли.
А потом нас с большака прогнали немцы. Очень много лежало мёртвых, то парень молодой, то мать с двоими детьми сидит и обоих обняла и замёрзла. Так нам и не разрешили идти по большаку. И вот прошли мы, Лугу и нас влево погнали, идём влево. У нас стали подорожники к концу. Это я в дорогу напекла котлет из жмыха да конины. Кости-то дома огладали. А из мяса-то котлет наделала. Было полное ведро и кастрюля. Спрашивают нас: -Куда едете? А мы не знаем, куда глаза глядят. Только бы до деревни доехать на ночлег. Деревни стали друг от друга рядом. Большаком когда шли, то деревень не было близко. А по просёлочным дорогам деревни стали чаще. Харчи наши все вышли. Пошли мы по миру. Я везу, саночки, а Аня с Петей по одной стороне деревни, а муж по другой стороне. Вот, как проедем деревню, а за деревней отдыхаем.
Кому чего-нибудь дадут. Муж был очень плох, ему подавали. У него была палка с него ростом. Он без палки не мог идти. Его палка поддерживала. Я раз обозлела на него:- Хоть бы ты пошибче шёл, видишь, как мы голодуем. А все говорили, что за Дно уедете, там лучше будет. А нам до Дна-то не добраться, совсем голод. На ночлеге я продала его свитер шерстяной за кастрюлю картофеля. И тут же съели. Вот он мне и говорит: Если бы ты такая была, я бы тебя положил на санки и повез. И тебя бы я не оскорбил. А ты меня оскорбила. Оставь меня и поезжай. Мне только надо два метра. А я сказала:- Как я тебя оставлю живого на дороге. Сына на дороге оставила и тебя тоже? Пока жив, пойдем.
И вот, как деревню пройдём, отдыхаем. -Вшей, в голове у всех полно. Погода-то хорошая, март. Дни длинные стали. Как отдыхать, так и вшей искать. Сначала у Ани, потом у Пети и у мужа.- А что подадут, посбираем, то и съедим. Соли подадут с картофелем и хорошо. И вот как мы колесили от Луги, угадали на Дно. Потом Порхов, Ошево, Дедовичи, станция Сушево. И приехали, в Великолукскую область. Там мы были сыты. А вот, когда мы подъехали к станции Дно, в двенадцати км, где мы ночевали, вот налетели самолеты, да и стали бомбить. А хозяева-то все встали и говорят:- Вставайте, бомбят. И они все ушли на улицу. А мы так устали, как легли на пол, так ребята и уснули. Я сказала хозяевам:- Мы не встанем. Что будет,убьют, то пускай убивают всех вместе. И они надо мной дивилися:- Ну и спокойная женщина, таких мы не встречали. А не знают того сколь я уже пережила и всего, видела страху. Вот доехали мы до хлеба и стали искать работы и где бы нам остановиться. Пока в дороге ехали, ведро прогорело и кастрюля прогорела, и топор украли. Осталась одна чашка. И на себя ничего нет. Берегла я три метра ситцу в дорогу, что если муж помрёт, положить не во что будет. Я не думала, что он выживет такую дорогу.
Вот десятого апреля как раз мы дошли до хлеба. А в деревне не прописывают. Как ночуем, так староста бежит и выгоняет — поезжайте дальше. А куда ехать — не знаем. Вот я дала старосте эти три метра и попросилася пожить неделю.
Вот пасха, праздник. Все бани натопили. Где мы ночевали, хозяйка и говорит:- Идите в баню, много зною. Ну по нашему,- жарко. Вот мы и пошли. А там такие бани:- на полу лед замерз, а моются на полках. Я налила воды, Аню помыла, потом Петю. А сама стою на полу на льду. А вверху жарко. Пока я их мыла, все и стояла на льду. Пришла домой, ночевала. А утром хозяйка нам по яйцу сварила и ватрушкой угостила. Добрая женщина, пожелаю ей успеха во всех делах.
Поехали дальше. И вот меня так схватило, сперва знобило, а потом жар, температура. А я ведь никогда и не болела. И мы стали проситься ночевать. Время было мало, нас не пускают. Идите, мол дальше. Ну я не могла. Переночевали ночь. Староста бежит и гонит:- Уезжайте. А я сказала:- Я не могу идти, заболела. Тогда он запряг лошадь, да скорей меня на сани, да в другую деревню. И говорит:- Вас, чертей, я устал хоронить, каждый день сдыхают, много Вас.
Ну у меня так окинуло губу, страсть глядеть, нельзя было открыть лица. И так долго болело, наверное месяц. А мы в бане не были с августа месяца 1941-ого года, девять месяцев. И вот на мое счастье, повстречала я соседку по окопам. Вместе жили в окопах в лесу. У неё трое детей и мать. А муж на фронте. Ей лет мало, не больше 26 лет. И она из леса ушла сразу в тыл и устроилася шить, портнихой заделалася. А мать с ребятами, где по миру походит, а где она заработает. И детей не бросила, мать есть мать. У неё были мальчики,- год, три года, пять лет. Такие все маленькие. Я, когда жила в окопе, у меня была корова — и я им каждый день давала молока. Корова только отелилася перед приходом немца. Таких коров я не спривидывала. Чтоб так много доила. Я пять раз её доила и всё полное ведро. А девать-то некуда. Я и отдавала молоко. Вот я её и повстречала. Она мне сказала:- Ступайте в эту деревню, там моя мама живёт. Вот я туда и уехала. Правда, деревня бедная и небольшая. Вот я пошла искать работу или в поле пастись.
Я пришла в деревню Перхова, большая деревня. Пришла я к старосте:- Может что поработать, семья у меня четверо, муж, двое детей. А он и говорит:- Давай в поле коров паси, а муж у меня поработает. И дочку я к себе в няньки возьму.
Вот мы ушли из той деревни, где жила знакомая. И только пришли в первый дом, а женщина и говорит:- Отдайте девочку мне в няньки. У неё был мальчик. И вот я в этой деревне и пасла скот с Петей. А муж пока не мог работать и его староста стал кормить. А он с голодовки-то ел много. Да и стал пухнуть. Я и говорю:- Как ты хорошо поправляешься, такой стал молодой. А потом гляжу,- он едва дышит, Я тогда ему не давала много есть. Говорю, что ты умрешь, нельзя много есть. А он на меня ещё обиделся, тебе мол чужого хлеба жаль. Ну и прошло, стал худеть и стало ему легче. А потом и поправился. А то он и говорить не смогал. Старый стал, 60 лет вполне дашь или 70, борода длинная, рыжая, редкая, неузнаваемый стал. А мне давали 50 лет, а мне 35-й год. И я тоже чуть-чуть не умерла. Купила четыре килограмма жмыха хорошего и продала Анины платья последние за два литра молока. Так наелися хорошо, досыта. Я и пошла работу-то искать. Пришла я в один дом, а меня старушка спросила:- Откуда вы, беженцы-то? Я сказала:- что от Ленинграда. Она заплакала и говорит:- У меня две дочери в Ленинграде, будут ли живы. Пообедай -мне предложила. Я села, она мне щей жирных налила чашку, потом каши, масляной чашку, потом каши с молоком чашку. Я всё съела и пошла домой, а деревня была недалеко, с горы да в гору. Вот я с горы сошла, а в гору-то не могу. А со мной был Петя. Я сказала:- Петенька, иди за папой, я умираю. Петя побежал и отец идет ко мне. А у меня был пуд картофеля, я на что-то выменяла. В той деревне всего много было и дешево. Если бы пораньше туда уехали, то бы мы не были голодны и голые. Кто ушел сразу-то, дак так обжилися и хлеба себе заработали. А мы такую голодовку перенесли.
Вот, я домой-то пришла, легла, а мне нечем дышать. Я встану, хожу, а как опять лягу и опять умираю. Встала, да все живот-то отглаживаю книзу изо всей-то силы. У меня от жмыха-то разбухла, да и супа-то жирного поела. Вот пришла смерть, я прощалася с детьми:- Милые детушки, я умираю. А муж мне и говорит:- Меня ругала, не давала мне есть, а сама напёрлася. Вот и ходи. А я уж не могу с ним разговаривать. И всё глажу живот мну его, чтобы легче было и я всю ночь не ложилася спать, всё мяла живот, что есть силы. И у меня стали газы выходить. Уйду в коридор, выпушу, и опять хожу по избе. И опять всё глажу вниз. Вот так и от смерти ушла. Ну, я почему так мяла живот? У меня было на факте.
В 1931-ом году у нас было две коровы. Одна отелилася, а вторая нет. Вот у второй коровы вымя стало такое большое, соски стояли. Надо было ее доить, а как доить?- Ещё не отелилася. Ну, стали мы её доить. И первое-то молоко клейкое. И мы его отдали теленку. Вот его с этого-то молока и вздуло. Лежит, едва дышит, сдыхает. Вот, мы взяли пучок соломы, да и давай его растирать книзу что, есть силы. Пока он не оправился, всё его терли. Так получилось и у меня. Жмыха, да суп жирный. Вот также я сама себя и лечила. Ну, дети были малы. Аня и Петя спали. Они этого не помнят, наверное.
Вот лето отпаслася. Нас кормили хорошо, мы поправилися, ели досыта. Ну, слёз у меня река прошла. Во-первых, я плакала по сыну, без поры, безо времени погиб невинный ребенок. А во-вторых, посмотрела-бы моя бабушка,что я в поле пасусь. У нас и в роду-то не было никого, кто бы в поле пасся. Помню, когда я жила в пастухах, а жила я там, где моя дочь Аня жила в няньках, и вот она идёт ко мне и горько-горько плачет. Я спросила:- Что ты, доченька плачешь? А она слов не выговаривает:- Мама, моя хозяйка сказала, что Нюра, неси пастушке есть. А пастушка-то моя мама. А я ей говорю:- Доченька, не плачь, только бы нам живыми остаться. Мы всех здесь оставим и побирах, и беженцев, и пастушек. И вот моя дочь и пошла домой, успокоила я её. И вот, так летом я паслась в поле с Петей, Аня жила в няньках, а муж стал работать из-за хлеба. Где работал, там и жил. А мы стояли по три дня у одного хозяина, у другого. Кормили нас очень хорошо, деревня сытая. Очень там много вишни, яблоней. Как весной расцвело, не видать-то домов. И жили там — войны не видели. Деревня от большака побольше километра. Немец проехал ходом на Москву. Колхозы все разделили по едокам, хлеб и скот. Ну, мужиков всех забрали на фронт. Сегодня отправили, а на завтра немец пришёл. А староста был, 60 лет ему и сыновья у него — два сына на фронте и два сына с ним — 17 лет и 13 лет. Староста был вор и двор, очень умный,- немцу платил и партизан не выдавал.
Лето мы отпаслися в поле, собрали хлеб и картофель. Нам дали один пуд хлеба с коровы и одну меру картофеля. А было двадцать две коровы. И заработали мы хлеба около 30 пудов и картофеля 30 мер. Осенью дали нам пустую избу. Мы с мужем наделали кирпичу, сложили нам печь и стали жить. Народ там очень добрый. Как придёшь к кому, то уж без обеда не отпустят. Муж заработал шерсти. Я стала зиму прясть, и вязать. Стала я Аню приучать вязать. Связала я мужу свитер чёрный, а себе платок шерстяной. Купили за пуд хлеба матрац, набили соломой. Потом и второй матрац купила. Ещё купила простынь, да пополам, разрезала, и связала, два подзорника. И устроила постель. Какая была радость, мягко на матрасе спать стало. Муж сделал кровать, деревянную, совсем хорошо.
Война идёт. Мне стали говорить, что приходили партизаны и они говорят, что немца от Ленинграда отогнали и северную дорогу освободили. Я ещё больше плакать,- куда мы заехали, на край белого света. Вот начинается тревога,- где партизаны убьют немца, то немцы эту деревню сжигают. А то, вешают. Виноват ли, не виноват, а попался и на виселицу. Много стали расстреливать. Стало как и под Ленинградом, а до этого там жили спокойно.
Наступает 1943-й год. Слышим, у немцев траур. В селе Хряпьево, там был немецкий штаб, и говорят, что много немцев взяли в плен. Они повесили чёрные плакаты, три дня висели. Говорят в народе, что Сталинград наши взяли. Потом сколь немцев нагнали, а потом пленных нагнали дорогу чинить. И вот как они работали. Четверо пленных в телегу впряжен, а трое сзади помогают. А как они все были оборваны. У кого одна нога в ботинке, другая в калоше. А кто в сапогах и пальцы голые. Кто во рваной фуфайке. А у кого пол шинели оторвано. Грязные, голодные. И вот, насмотрелись мы и пошли к пленным поесть дать. Соседи напекли лепёшек, кто гороховых, а кто ржаных. А я наварила ведро картофеля, всю очистила, посолила солью, и пошли. Вот идём по дороге и по сторонам кидаем. А они так и хватают. Кто ловчее, тот больше схватит. Останавливаться нельзя было, а то немец плетью оденет по голове. Вот я ходила два раза и носила картофеля. А потом не стали разрешать.
Я повстречала одного пленного из нашего Чухломского района. Ну, сельсовет разный, а рядом. Спросила я его где попал в плен. Он сказал под Москвой. Я спросила какая семья. Он сказал,- мать, жена и дочь. А вот, жив ли он уже, не знаю. Ну, пленных 43-го года стали лучше кормить. А кто попал в плен в 41-ом году, то тех нет в живых, их уморили голодом. В Саблино был лагерь пленных, 1000 человек, а осталося 100. В скорое время один сбежал и рассказывал, что там очень издевалися. Смогаешь — иди, а упал — тут же пристреливали. Ну, мне много пришлося видеть пленных в лагере, когда я ходила менять конину под Ленинградом, насмотрелася. Раз иду, а пленные поили лошадей. Они не смогли ведро воды поднять, а двое одно ведро несли и то, болтались из стороны в сторону. А немец кричит — раус, раус. Это значит, быстрее идите.
А потом немцы поймали партизан. Один лейтенант был. Его выдала женщина, его забрали и расстреливали. Опять, как нас. Потом пришёл приказ, чтобы всех, беженцев отправить в глубокий тыл. И вот староста всех отправил. А нас, три семьи не хотел отправлять, хорошие были люди. Две семьи были с Вырицы. Ну, ему потом предупредили — если не отправишь, то штрафу получишь. И вот в апреле месяце нас отправил староста на станцию Сущево. А как нам не хотелось трогаться. Привыкли, да и сыты стали и оделися. Купили холста, да по рубахе сшила, да шерсти муж заработал, ему свитер связала. И вот напекла шесть хлебов в дорогу. И у меня всего богатства — два мешка сухарей и ничего было больше не надо, только бы хлеб.
И вот, погрузили нас в товарные вагоны, а куда повезут, не знаем. Кто говорит — В Латвию, кто — в Эстонию. А кто говорит — в Германию. Кто куда, а нам было безразлично. Все так напуганы, не могу сейчас представить. Ну, умирать не хотелося, охота дожить, когда воина кончится. Привезли нас во Псков и там мы стояли всю ночь. Нас заперли в вагонах, сказали,- ссыте и срите, вас не выпустим, пока не придет время. Оказывается бомбили наши аэродром. И мы стояли до света. А рассвело, мы поехали дальше. А за нами шел состав с орудиями. Мы-то проехали, а орудия-то взорвали. Вот была тряска, дома тряслися. Нас привезли в город Остров и высадили. Никуда больше не повезли.
Везде нас было много беженцев, хороших не было. А всё старые да малые. А в Германию увозили молодежь. А куда нас? И вот всех погнали нас в баню, а вещи оставили на платформе. Господи! Подумаю сейчас, прямо не могу. Я оставила дочь Аню в мешках, а нас в баню погнали всех. А баня-то большая, военная. Нас всех, как скотину, в одну баню, мужчин и женщин, и детей, и девушек лет по 18, всех вместе. Девчонки стесняются, а немец ходит с резиновой плетью. Как даст по спине, так и завьешься, вот все и были вместе. А вещи все жарить повезли, будто вшей много. А вещах-то Аня. И как её только немцы не убили.
А сейчас, как вспомню, прямо сердце разрывается. И вот немец включил душ, а дети-то как испугалися, да как рявкнут. А немец держит уши и говорит,- капут, капут,- от шума. Потом все оделися, погнали нас опять на эту же платформу. А евреев всех отдельно, их было пятнадцать семей. Забрали ихние вещи и на расстрел. А нас всех в большое здание в барак. Полный набили, сесть некуда. Вот на второй день нам дали хлеба по триста граммов и поллитра бритки. Это мы в первый раз получили немецкий паек. А вещей-то у меня было всего, два мешка сухарей, да мешок хлеба испекла, и два матраца домотканых. Для меня главное был хлеб и ничего больше не надо. И зачем только я заставила Аню вещи стеречь. И вот три дня мы сидели на своих, мешках и спали сижу, кто как сумел.

Фото 1970 года из семейного архива Травниковой В.В.
И вот, воскресенье, месяц апрель, а какое число, мы никто не знали. Числинника нет, газет тоже нет. А месяц сказали апрель. Приехали за нами подводы и повезли нас в заставу, на границу с Латвией. Нас было триста человек. Привезли, стали давать паек, хлеб с бриткой, да свои сухари, можно жить. Нас поселили семнадцать человек в одну комнату, а комната восемнадцать метров. Спали мы ноги к ногам а головы у стены. Постель не постелишь . Кто в чём ходил, в том и спал, не раздевалися. И прожили там семь недель от Пасхи до Троицы. А какого числа была Троица, не знаю. Только помню, нас везли, а народ-то все шли на кладбище и сказали,- сегодня Троица. Да, а я вспомнила Троицу — как я к бабушке в гости ездила. Да как я наплакалася. Лучше бы было умереть, чем так жить. Поглядела бы на меня, бабушка.
Когда мы жили в заставе, приехал волостной к нам и говорит коменданту и завхозу, что хороших людей отбери в нашу волость, а вшивых в Пустошинскую волость. А вшивые-то были от Старой Русы. А нас, ленинградцев, всех в Пальцовскую волость. И нас, три семьи, в деревню Тупицыно направили, а там кого куда. Пожили мы в Тупицыно три месяца и переехали в Пупорево. Муж там работал и попросил волостного, чтобы дал нам отдельный угол. А я осталася в положении, поправилися от голода и сотворили беду.
В Великолукском районе народ очень добрый, а когда нас привезли в Остров, то народ совсем не такой, что звери, такие несознательные, просто идиоты. Это в той деревне, куда мы вначале попали и где прожили всё лето 43-го года. А когда переехали в другую деревню, то там народ добрее в Пупорево. Ну всё равно, мы были чужие, беженцы. Я в этой деревне косила, жала, картофель копала. На работу я была хлесткая.
И вот, в сентябре месяце мы переехали жить в Пупорево в школу. В Пупореве была капитальная школа и очень большая. Когда пришел немец, то школа была не нужна. Свои же и сказали, на что нам школу, раз землю разделили и хлеб. Колхозов не стало, мол будем жить, как раньше жили. И школу нарушили. Все парты растаскали и скамеек наделали. И в 41-ом году там сено валяли вместо сарая. В 42-ом году сделали клуб, танцевали. Правда, зал хороший был. В 43-м году сделали церковь. Выпилили капитальную стену, сделали огромное здание. В одном конце пол подняли, сделали, алтарь. Навозили икон из церквей, на иконы навешали полотенцев, украсили иконы цветами, и нашли попа.
И первую службу я запомнила. Был праздник Кузьма, это было 14-го июля 1943-го года. А я и Аню и Петю взяла с собой и пошли молиться. А мы-то жили тогда в Тупицине. Подхожу я и гляжу — школа, а на крыше крест стоит. Я сразу изумилася, что такое за чудо — в школе и церковь. Я, конечно, любопытная, расспросила — как и почему и когда и кто это сделал и когда что было.
И вот когда я осенью приехала жить, в этой церкви кухня-то школьная была пустая. Но печка разворочена, и задвижки вынуты и стекол в раме нет. Вот мы окно заколотили досками и одно стеклышко, вставили, чтобы свет видеть. И вот, стала служба каждое воскресенье. Ходили молиться много народу, а главное, много беженцев, и все горем убитые. Война, да все без крова.
Вот, один поп послужил, да какая-то суматоха произошла и поп убежал. Вдруг второй приехал, звали его Отец Иоан. Ну и поп. Службу всю знал, ну и пил, и с посестрой жил, это по нашему любовница. Денег подавали на блюдо много. За одну службу получал по семь-восемь тысяч. А деньги-то были красные, тридцать рублей бумажка. А самогонки литр стоил восемьсот рублей или тысяча. И вот он брал этой самогонки и пил. Попу всё несли миряне, кормили его. И мясо, и масло, и яички он не проедал.
Люди там жили очень богато, хлеба у них было много. Скот колхозный разделили по едокам. У кого маленькая семья тому давали одну корову. А у кого большая семья, тем по две коровы. Так и коней. Ну у сытых и мы были сыты. Пошли работать за хлеб. Работы мы не боялися. Ну только очень было обидно. Одни жили и барствовали, а я раба. Куда пошлют, туда и шла. Только бы накормили. Которая хозяйка плевка моего не стоит. А она хозяйка, а я раба, подчиненная.
И вот мы живем на кухне. А поп живёт с посестрой в учительской комнате, когда там школа была. И вот он приходит к нам и говорит мужу:- Павел, ты иди служить ко мне дьячком. А мой муж и говорит:- Нет, я не могу этого делать, может, что другое. А поп настаивает, чтобы шёл. У попа власть была он что хотел, то и делал. А немцы к нему,- пастырь, пастырь. Тогда поп и говорит:- Ты, коммунист, ты богу не веришь. Чисти моего коня. Муж согласился, а то выгонит из комнаты. Потом поп пришёл и опять говорит:- Не пойдешь служить? Муж сказал,- Нет. Тогда я беру сына твоего. А Пете было десять лет, он с 1933-го года, а был 1943-й год. И взял Петю подсвешник носить, да кадило. Ещё он взял, двух мальчиков беженцев. Одному 15 лет, а второму 16. Сшил им ризы. И вот они ходили по церкви. А мужа всё посылал молиться. Как-то муж и его товарищ выпили и пошли в церковь, стоят, а руки поджали к сердцу. А поп увидел их да и бежит с крестом. Молись, говорит. А я только и караулила, чтобы у меня уголья не потухли. Петя бежит:- Мама, давай угли, кадило погасло. Бежит и дрожит от страха, что поп заругает. Я раз пришла в церковь и гляжу как он издевается над ребёнком. А со стороны видят люди и говорят:- У этого ребенка наверное нет родителей. Когда кончилась служба, я сказала не попу, а его посестре:- Я больше не пущу Петю служить, он над ним издевается. Тогда поп стал получше.
1944-й год.
Наступил апрель месяц. Пришла Пасха. Стал поп ездить славить по деревням. И ребят с собой забирал. Те-то большие да и грамотные. Он их петь заставлял. А мой-то мал, только кадило носил.
И вот, вдруг застучал фронт у Пскова, стало слышно удары. Как дадут гостинец, так и дома зажихают. Вот раз поп и рассказывает проповедь. С крестом стоит и говорит:- Православные, помолитеся, враг, наступает. А со мной стояла беженка, мы вместе с ней ехали, и говорит:- Слушай, что поп-то говорит. «Молитися, враг наступает» Ведь мы-то наших ждем. Какой же враг? А остальные все крестятся, плачут. А что поп сказал, поняли или не поняли. А вот крестятся да плачут. Вот всё это истинная правда, нисколько не преувеличиваю.
Вскоре нагнали немцев к нам. Ну что-то не тихо, я думаю. Как в Великолукской области, когда Сталинград взяли наши и нагнали пленных и немцев, так и здесь начинается. Значит гонят, раз стали слышны удары. А нам опять тряска, нет покоя. Вот стали немцы молодежь забирать. Стали прятаться, кто куда. А фронт стучит у Пскова крепко. Вот-вот скоро придут. А я такая стала кляча. Не могла ходить, живот велик. Думаю, если немец погонит, то пускай на месте стреляет. Мне не уйти.
А у Пскова била катюша и давала жару. Как даст, как даст, дома так и жихают. Я стала думать о себе, что-то будет, мне не убежать, ноги как бревна распухли. Пятьдесят метров в день ходила туда и обратно. Смерти я уже не боялася, только бы не мучиться. Я даже с первых дней войны просила бога — или легко бы ранило или убило на смерть. Насмотрелася я на раненых, идти не могут, а помощи нет. Фронт уже ближе подходит к Острову. С Острова эвакуировали всех жителей и больницу к нам в Пальцово, недалеко от Пупорево. А в Пупорево столь нагнали беженцев, по двадцать человек в избу. И на дворе спали и на чердаке. А беженцы-то ото Пскова и Острова, свои уж, соседи.
Месяц май. И вот, пришел срок и мне. Увезли рожать в больницу в двух километрах от дома. А какая больница? Полно, школа. Тут и старухи, тут и врачи живут. Где ж им до нас, кому мы были нужны. Лучше, бы дома с бабушкой родила. Холодина, все забрались в тепло, а меня положили на стол холодный, мне не встать, стол узкий. Так одна я и родила. А как заревел ребенок, услышали и пришли. Не дай Бог такому случаю никому. Я родила двойняшек — сына и дочь. Сына назвала Колей в честь старшего сына, которого немец расстрелял, а дочь — Лидия. Ну, ещё горя больше стало. Не во что было их завернуть. Из больницы привезли их в чужом одеяле. А тут, что хочешь делай. Ну, вот привезли меня домой.
Ну, фронт очень долго стоял за Островом. Говорили, что крепко немец окопался. Ну, фронт пошел стороной. Связался с партизанским отрядом в стороне от Острова, где Пушгоры, Новоржев. И тем краем и окружили Остров и Псков. Мы ждали по шоссе от Острова, а наши пришли от Острова левой стороной. От Великих Лук до Пушгор вся сторона была, безо власти и была занята партизанами, с левой стороны железной дороги. А по правую сторону были немцы. Тоже тяжело жилось там крестьянам, день — немцы, а ночь — партизаны. Горели деревни каждый день. Конечно, и жертвы были большие.
В 1943-м году много поймали немцы партизан. У них связной была Клава Назарова, она жила в Острове. И тогда этих партизан и Клаву Назарову повесили немцы в самом Острове. Сейчас там стоит памятник Клаве Назаровой. И вот фронт связался с партизанским отрядом и немца погнали ходом. Бежал без порток в одних трусах, кто в майке, а кто и без майки. 21-го июля нас освободили от немца. А за день до этого, 20 июля 1944-го года была наша разведка. Самолет облетел нашу школу так низко. Я стою и гляжу и лётчик виден. Наклонил самолет-то, вот крышу заденет. И вторая разведка была,- подошел ко мне немец и говорит хорошо по-русски:- Мамаша, брось работу, бесполезен ваш труд, завтра здесь русские будут. А я огурцы полола в огороде. И я спросила:- Куда же нам-то бежать? В лес? И такой молодой парень. А немцы-то едут без конца. А этот-то был наш, только в немецкой одежде из разведки. К вечеру столь наехало вокруг школы лошадей, места нет. К Латвии то одна дорога, а к школе-то с трёх дорог подъезжали, и от деревни Елино, и от Гольнево, и от Шолдино.
Я стала мужу рассказывать, что мне немец сказал, что здесь русские будут. Да и самолет так низко летел. Поедем мы в кусты, здесь страшно. Вот, запрягли мы коня попова, да и в кусты. А добра-то у нас — всего два мешка сухарей, да поповы вещи. Я взяла на руки Колю, а Аня Лиду и пошли. А через реку-то никак не переехать, всё немцы едут без конца и всё гонят лошадей, один на одного наезжают. Такая суматоха поднялася. Я думаю — не переехать нам. А время-то, солнышко садится, уже к вечеру. Ну вот, переехали мост, уехали за деревню. А там не знали — куда ехать? Небольшая дорога. Мы по ей поехали, да и приехали в тупик. Там поля-то низкие и всё канавы нарыты глубокие. Нам не проехать, надо обратно вертыхаться да и ехать по другой дороге. Я видела, где люди-то ехали. Ну мы не знали, я на этом поле ещё не работала и потому не знала. А по нам пули летят. Мы легли под кусты у канавы да и лежим. А пули-то, пчик, пчик, через нас. Ну, никого не ранило. Нас было шесть человек, я со своей семьей, да баба Маша с козой. Век не забуду. Это помнят и Аня и Петя.
Вот утро, пули не летели. Мы вернулися к деревне и поехали куда все ехали,- в пастбище, в кусты. А когда немцы-то отступали, то ходили, по дворам и резали овец. А соседи тоже видят, дело плохо, и тоже давай резать. Одни зарезали корову, а мне кишки отдали. А я из кишок-то наварила мыла. Продавался камень такой, за тысячу рублей — килограмм. Вот я килограмм купила этого камня. Не помню как его называли ну, такой — пальцем потрогаешь и палец обожгёшь до мяса. И я положила пуд кишок и килограмм камня и варила мыла и вышло сорок кусков. А когда я поехала в кусты-то, мыло-то и забыла взять. Вот утром-то, 21-ого июля я послала дочь Аню:- Сходи за мылом, домой. И она дошла до школы и идёт обратно и говорит. Мама, я боюсь, там сколь лошадей набито, сколь немцев убиты. А ночью-то бомбили и как раз вокруг-то школы и упали три бомбы и как раз ко мне в огород, где полола огурцы. А в школе ни одного стекла нет, только ветер полотенца раздувает. Аня-то пришла, и я сама пошла. Я взяла мыло, иду, а мне навстречу три немца бегут голые. Один в майке и трусах, а второй без майки, голый, а штаны оторваны, по колено. Этот и говорит:- Сколь километров Латвия? Я сказала:- Пять километров и показала руку, пять пальцев. Тогда, он просит спичек и показывает мне зажигалку и говорит:- Капут, капут. А они все мокрые, переплывали реку, напрямик бегут. Потом они спросили у женщины, та около дома стояла:- Дай спичек. Женщина пошла за спичками, а они и говорят:- В одиннадцать часов русские будут здесь. А было время семь или восемь утра. И вот, идёт женщина со спичками, он и говорит:- Ёб твою мать, давай скорее. А не то сказать — спасибо. Вот так и бежал немец, ему было не до нас. В одиннадцать часов уже слышим из кустов:- Ура! Ура! Взошли на гору в деревню Шолдино. И вот все побежали встречать, кто ждал.
А многие были за немецкую власть, тем не по душе. А староста сразу рехнулся здоровьем, думал, что его сразу расстреляют. Заболел голос, перехватило от испуга. Его в Ленинград отправили, ну там и умер, рак горла. Ну продажных шкур было там много. Сейчас уже умерли, кого я знала. А за неделю или побольше до наших, попа немцы забрали. Он окровинил свою посестру. Она бежит ко мне, а навстречу немец и говорит, капут. А со стороны и говорят,- пастырь. Тогда немец заявил в пропаганду и пришли и забрали попа. И дня через четыре пришли и взяли его посестру. Ну она, наверное, чувствовала, что её заберут и принесла ко мне мешок с добром, а что в мешке,- я не глядела, и швейную машину. И говорит:- Пусть конь у вас, походите за ним. Вот так и получилося,- я в лес то на коне и поехала. Пока фронт шел, нас домой не пускали, погодите, мол, дня три. Потом все домой приехали, пошла тыловая часть.
И стали всех мужчин на фронт забирать. Приехала я в свой угол где жила. Наехали в школу военные и у каждого по бляди, так называли ПФЖ (так называли прифронтовых жен). И они заняли одну комнату под парикмахерскую, во вторую наставили коек спать. И ко мне пришли две бляди и говорят:- Вы здесь живете? Я сказала:- Да. Вы, пожалуйста, освободите эту комнату пока на время, а вы, хотя, в сарай. А сарай-то был без стены, а у меня четверо детей и при том маленькие. Я им говорю:- Там холодно, как я там с ними буду. Ну они настаивают, чтобы я куда-то ушла. Тогда я около уборной, где была маленькая кладовая в четыре метра и поселилась. Повесила через балку веревку, принесла люльку и положила ребят. А им ровно было два месяца, как родилися. И поставили в угол сухари, а на матрацы сели и сидим. Я качала ребят.
Вот приехал какой-то, вроде офицера, не помню, и пошёл в уборную. А из уборной была щель к нам в кладовку-то. Ему было, конечно, не ловко. Вышел он из уборной и заходит к нам и говорит: -Что здесь такое? Что за люди? А я и говорю:- Здесь целая семья, четверо детей и я с мужем. Он спросил: А где же вы жили? Я показала:- Вот моя комната, а меня выгнали вот эти девушки. И он на них как крикнет:- Что такое? Мы идём освобождать, порядки налаживать, а вы мать с четырьмя детьми в туалет выгнали. Ну им, блядям, и дал жару. Как они забегали. И сказал:- Час сроку, чтобы были освобождены помещения. А мне сказал:- Что не в порядке, напишите мне, что если сломали. Ну, правильно, за час они все выкидали. У них было до самого потолка накладено. А мою дочь они послали ещё:- Девочка нарви цветов. Аня бегала и им, блядям, цветы рвала.
Дальше, мужа взяли на фронт. Я осталася одна с ребятами. Началася новая власть. Пришли ко мне две учительницы. Надо открывать школу. И говорят:- Вы здесь живете? Да. -Будете у нас работать техничкой. А у меня ком в горле застрял, я едва ответила:- Буду, только я не умею, что делать надо. Они сказали:- Вот будете белить да мыть. Значит, я буду уборщицей. Да как я наплакалася. Да всё вспомнила. Как говорится, век пережить, не поле перейти. На своем веку наживешься и в меху.
Стала я работать уборщицей в школе с 1-го августа 1944-го года. Стали давать паек хлеба, 200 грамм на ребят, а я 400 грамм получала в Острове. Два раза в месяц оставляла ребят одних и уезжала. А конь попа всё у меня. Его берут работать, началися опять колхозы. А я думаю — продам коня и куплю корову. Я его кормлю, навязываю на траву. На ночь домой запираю, а день в колхозе работает. Стали брать уже не спрося, как так и надо. Я сказала:- Коня больше не дам. У меня нет коровы, а дети малы. А конь не колхозный. Я пошла в сельсовет насчет метриков, ребят надо записать, да насчет коня. Что конь попов, я за ним хожу. А у меня нет коровы, и муж на фронте. Тогда он выслушал мои слова и сказал:- Завтра в колхозе будет собрание, подойдите. Я пришла. Собрание кончилося и вот председатель сельсовета и говорит:- Скажите Вы мне,- что за конь, чей и кто хозяин этому коню. Вот и говорит председатель колхоза, что конь поповский, ну мы на нём работаем. А председатель сельсовета им говорит:- Вот, гражданка Макарова просит за коня корову. У неё четверо детей. А председатель колхоза сказал:- Она не колхозница, мы дать не можем. Тогда сказал председатель сельсовет. Она не колхозница, конь не колхозный. Пускай она сама, что хочет, то и делает. Пусть продает и покупает корову. Так и решили.
Вот я пришла домой, а на утро пошла на конюшню. Коня ко мне приводили, как поработают, а сбрую не приносят. Вот я пришла, взяла хомут и седелку, а возжей и нет, кто-то присвоил. Хожу, поглядываю. Нашла и возжи у Леньки Сергеева, тот парень, гляди. Запрягла я коня, взяла Петю с собой, да Лиду. Ане тяжело с двоими-то водиться. Вот и поехала в Латвию. В первый день не нашла, поехала на второй день и купила корову, да еще восемь пудов хлеба, да два пуда мяса. Да, выговорила коня сена навозить, когда накошу на корову. И согласился хозяин как я сказала. Как мужа взяли на фронт, все стали говорить:- Ахти тошно, как будет Дуська жить, вот пропала-то.
А как раз был такой старичок, бедный. Его вроде придурком считали, а он был не дурак. Вот он и говорит:- Каждый потужит, чтобы тебе было хуже. Вот я его пословицу и сейчас помню. И всё истинная правда. Меня жалели, а коня надо отобрать. Привела я корову в августе месяце, число не знаю. Пошла, опять в сельсовет и говорю,- как бы покосить на корову, можно по лесу хотя бы. А председатель и говорит, что иди и коси вот туда-то, там мол всё не кошено. Я и пошла туда косить, брала я с собой Петю и Лиду. Петю учила косить, ему был одиннадцатый год. А Лида лежала на кочке. Она была очень плохая маленькая. Накошу травы, да и положу ее. И спит на воздухе-то. Закеркает — посошу и опять спит. А Аня с Колей водилася. Столько я накосила копен и думаю, как бы скорее перевозить. Как увидят, то украдут, пожалеют, как говорил старик. Я скорее в Латвию, взяла коня, да и всё перевозила . Столь много накосила, и на корову и на овцу хватило. Всё в один день доставила сено. Петю научила как воз накладать, а я подавала. Вот так и помогали, пока до школы.
А 1-ого сентября пошли ребята в школу. Аня в 3-й класс, а Петя в 1-й. В войну-то нигде не училися, стали переростки. Три года пропало. Петю скоро перевели во 2-й класс. Когда они училися, то я с ребятами вожуся. Да, работы хватало. Пока была дома, пряла и вязала, а маленькие сидят в кровати. А до этого то ещё лежали в люльке, а потом в кровати-то сидели. А как кончится учение у ребят, то сразу надо в лес за дровами идти, так и помогали. А потом я стала в колхоз ходить прирабатывать трудодней, всё что-нибудь дадут. Уложу их спать, а сама на работу, а Аня с Петей в школе. Уйду, спят и приду — спят, такие были спокойные. А сколь они спали и сколь плакали — контроля не было. А когда стали подрастать, то негде их оставить. На полу холодно, вода в ведрах замерзала. На постели посажу, а сама за водой пойду. Приду домой — Лида сидит на кровати, а Коля на полу. Коля был сильнее Лиды, здоровый, а Лида плохонькая. Тоже все говорили:- умрёт. А вот говорится пословица,- живого мёртвым нельзя назвать. А ещё пословица — были бы кости, а тело будет. Вот и моя Лида, были у ней одни косточки и стала крепче Коли. Коля падал с кровати 12 раз, один раз из окна, один раз с печки, один раз с крыльца (он уже это помнит). И всё Бог миловал, ничего не повредил здоровья. А Лида — один раз с печки и один раз её уронили девочки и повредили носик. Так и остался немного неправильный.
Коля и Лида, росли в бедности, игрушек не было. Пойдём на работу огород копать, дам им по чашке, да по ложке, да насыплю зерна или гороху. Вот, сидят, да перекладывают из чашки в чашку, да тут и уснут. Прихожу посмотреть, как мои ребята играют, а они уже спят. Коля спал всегда на пороге, а Лида головой под кровать и попой кверху. Вот скорее их в теплую тряпку заверну, да в люльку, согреются и долго спят. А мне надо было везде, успеть. Печь истопить, и надо было кусок хлеба заработать, и обшить и обмыть и накормить. Приходилося так работать,- за папу и за маму. Ну время у меня было для сна два часа. Я в час ночи ложилася, а в три часа вставала и бралася за работу. По ночам топила печи в классах и в тоже время катала валенки. Мама и есть слово мама. Ну тем я была счастливая,- никогда я не болела, это самое счастье. А одежды-то у меня не было и на ребят нечего надеть. Получила я пособие, да пошла в город Остров и купила я на барахолке три одеяла солдатских, да шинель немецкую, да простынь. И нашила всего, Пете костюм, себе юбку, Коле и Лиде по одеялу. Одно одеяло фронтовое было, им укутывалися. А из шинели сшила Ане пальто из верху, а из подкладки сшила себе юбку и кофту на вате. А из простыни сшила две кофты себе и Ане. И начали с этого жить.
От мужа получила письмо, что раненый лежит в госпитале. Ну мне было к нему не съездить. Недалеко он лежал, в Латвии. Конечно, каюся я , а тогда мне тяжело было,- ребята малы, да и скотина на дворе. И Аня мала, с двоими-то водиться. А ведь в школу ещё ходили. А муж лежал два месяца, и опять в ту же ногу был ранен. Очень я сейчас каюся. Два раза его спасла от смерти, а тут не сумела. Надо бы взять обоих ребят и Петю, да идти пешком. А Аня была бы одна дома и ходила бы в школу. Я думала об этом, ну решила,- на Бога. У меня было денег две тысячи, деньги были, дешёвые хотя, а может бы его и отпустили домой. Сказать так, я виновата, этого не сделала, не сходила к нему. И посиё время думаю об этом. Ну, не вернёшь.
1945 год.
Получила от мужа письмо. Пригнали их на самый фронт, на Восточную Пруссию. И пишет он:- Думал я с вами свидеться, ну вряд ли придётся. Перед нами стоит боевая задача. Не обижай ребят больших, также и маленьких. Они не виноваты. Письмо было написано 12 января 1945-го года и больше писем я не получала, на этом конец.
Когда кончилась война, кричат:- Мир! Мир! Победа! Ну у меня сердце упало, я не дождуся. И по снам и по приметам сердце не обманешь. Когда началася война, меня дома не было и когда кончилася, тоже дома не было. Была я в Латвии, за поросятами ходили. Ну на меня крепко подействовало, что Победа. Я едва домой дошла. И у меня всё отнялося,- руки, и ноги, и шея не ворочилася. У меня схватил нерв. Лежу и гляжу, ничего не болит, а ничего не шевелится. Вот, Петя пошёл в поликлинику, мол мама заболела. Пришла врач, сделала укол. Ну, что всё равно ничего не владеет. Меня научили хлебом окладаться горячим. Ещё научили солёную ванну делать, в кадке прогреваться. Всё я делала и врач сказала, что сразу отнимай ребят от груди. Вот как раз им был год и Коле и Лиде. Вот лежу я на постели, а Аня и Петя в школе. А Коля и Лида пересралися и перессалися и сидят, да гавно размазывают по полу. А у меня сердце разрывается. Не могу Аню дождаться из школы. Вот та бежит да их прямо в холодную воду замывать жопы ихние, да и в постель. В теплую тряпку завернула и они уснули.
Вот, я плакала по сыну, три года глаз не осушивала, а сейчас по мужу. А как сама то заболела и думаю:- Они-то на своих местах, их не вернешь. А эти-то все есть просят, куда они поспели без матери. Да не стала я больше плакать, ни по сыну, ни по мужу. И сама про себя,- как мне этих-то воспитать? Ну слёз я своих никому не показывала. Спросят:- Как живёшь? -Хорошо. Стала я ходить помаленьку с палкой. Ну не наклониться. Ребята копали огород, Аня и Петя. И навозу наносят. А я приду и покажу где и что сеять. И Аня сеяла морковь и лук, и огурцы. А картофель садить-то, то я не пошла к своему бригадиру в Пупорево. Они были богаты, а богатый бедному не товарищ. Я пошла в соседнюю деревню Мейши, там бригадир был сознательнее. Я взяла палку и пошла помаленьку, попросила его и он прислал старика. А старик такой трудолюбивый. Он мне спахал и заборонил. И говорит ребятам:- Давайте телегу, сейчас навозу навожу. Навозил навозу и говорит: Несите картофель, сейчас посадим. И вот посадили картофель и я была очень им довольна. Они сейчас оба умерли. Ну, царство им небесное за их добро.
Я была без ног шесть недель, потом стала ходить. Не стала я нервничать, и плакать стала воздерживаться. Вот приехала ко мне попова сестра. Сперва не ко мне, а в сельсовет, узнала кто и где живут и насчёт коня. Ей сказал председатель сельсовета:- Иди, та женщина там и живёт. Она пришла, я её встретила по хорошему, всё рассказала, как всё было и стаскиваю с печки её добро и машину. А за швейную машину в то время давали корову в Латвии. А она и не верит, что я всё спасла и говорит:- Я вам очень благодарна, а корова пусть будет у тебя, пусть ребята молоко пьют.
Я всю жизнь прожила, ну чужого капли никогда не брала. А мне Бог помогает, я здоровая, сама всё нажила. Работы я не боялася никакой и ловка была на любое дело. Ну, сколь я была не бедна, ну с худыми не зналася, особо с лодырями. У меня все друзья люди порядочные. И по беседкам я не ходила, каждая минута для меня был урок, то есть задание. Сама я шила, сама я вязала, и валенки катала, и в поле была первая работница.
До войны и после войны никого я никуда не отдала. Говорили:- Отдай в детский дом маленьких. Я и не думала. Картофеля поедим, да все вместе. Мама есть мама. Мой зять, Панин муж, зарабатывал в один вечер по сто рублей (Михаил Ершов), а детей-то никого не воспитал. Это отец. А я зарабатывала в месяц сто пятьдесят рублей и никого не бросила. По сейчасным деньгам пятнадцать рублей, так мало платили в школе. Стали ребятишки подрастать, стали ходить. Коля пошел с годом, а Лида позже пошла. Она была очень маленькая и плохонькая. Всё пока так и живём, ни лучше, ни хуже. А жили то мы на кухне, площадь десять метров всего. Три метра занимала печка русская, четыре метра две кровати, один метр стол и два метра прихожая. А кроватей то не было, а на козлах постлали доски, вот и кровать. Была маленькая скамеечка, для двоих сести. Один сидел у стола на кровати. А Коля и Лида сидели на столе до четырех лет. Ноги калачом и кушали они каждый из своей чашки. Никто не тронь ихнюю чашку и ложку. Так что не на что было сесть, да и не куда поставить лишнюю скамейку.
Коля и Лида жили очень дружно. Если Лиде я налью молока, а она и говорит:- А Коле тоже дай. А если налью Коле, тоже говорит:- А Лиде? И чтобы было поровну обоим. И долго делили всё, до возрасту лет. А они так к этому привыкли, как будто так и должно быть. И сейчас этого придерживаются. А сахар мы не пили с 1941-го по 1951-й год, десять лет. Ну и то давали по выдаче до 1955-го года.
1946 год.

фото 1946 года из семейного архива Травниковой В.В.
Прибавили мне зарплату, я стала получать двести рублей в месяц. И облигации навешивали, подпишись тоже на двести рублей. Хлеб стоил пуд пятьсот рублей. А я получала двести рублей зарплата, сто пятьдесят рублей пенсию и сто рублей, как многодетная мать должна получать до пятилетнего возраста на Лиду и на Колю. Мне не хватало всех денег на один пуд хлеба. Учителя тоже получали по четыреста рублей, им тоже тяжело было жить. Кто жил? Крестьяне, у кого был хлеб. Я нажимала только на картофель, стола много сажать картофеля.
Вот, выбрали нового бригадира и постановили сделать обыски по домам, у кого что найдут колхозного имущества. И ко мне пришли. Ну это я думаю, по доказу кто-нибудь видел. У меня осталися поповы сани. Я их поставила вместо ясель, корова там ела, очень удобные. Я их околотила заглухо, чтобы корм не валялся. И вот, я ушла в Остров по делам. Аня была дома, а сарай не запирали днём. И вот пришли в сарай бригадир, член правления (был Лёнька Сергеев) и еще не знаю кто. И взяли мои сани и увезли к колхозному двору. Прихожу я с Острова, а дочь Аня плачет:- Мама, у нас сани взяли, пришли, корову привязали к столбу и увезли сани. Я пошла к бригадиру, его нет дома. Он работал на трёх деревнях, где я его буду искать. Пошла я к колхозному двору, вижу сани мои стоят и оглобли ввернули на чеку, только запрягай. В 12 часов ночи я взяла Петю и пошла за санями. Вывернула оглобли и покатила под гору, сами катилися. Лёд был, невозможно пройти. Вот мы их в речку-то скатили, а из речки-то никак не вытащить. Туда-сюда по речке-то ездили, нет сил, Петя то был мал. Ну, наконец, втащили. Поставила я на место корову, привязала, сарай заперла, всё в порядке. Это была пятница.
В субботу я мою классы, грязища в классах. И вот идёт ко мне бригадир и говорит:- Здравствуйте. Я сказала:- Здравствуй, Александр Кузьмич, что скажете? А он был партейный, из себя такого умного строил и говорит:- Да, да. Ну как живёте? А я говорю:- Какая моя жизнь? Вот видишь, какую грязь ворочаю, а что зарабатываю? А у самой пот с лица лил. Вот он и говорит:-Я к вам пришёл по делам. А я:- Пожалуйста, в чем дело? (раз, он так вежливо, и я с ним вежливо) -Вот, у нас в колхозе кража, пропали колхозные сани и говорят, что ты взяла. А я ему в ответ:- Нет, я колхозных саней не брала. А я только свои сани взяла. Я не колхозница и сани не колхозные, а мои. Он говорит:- Сани поповские. А я сказала были поповские, а я у него купила и стали мои. Он опять своё:- Да, да. Нет, надо сани отдать. Тогда я ему говорю:- Александр Кузьмич, неужели вы на моих санях колхоз построите? У меня четверо детей, хлеба нет. Вы спросили как я живу? Муж погиб на фронте, сына убили, дом сгорел. Богатому жаль корабля, а бедному костыля. Я их продам на хлеб, да ребят накормлю. И сама, я не выдержала, заплакала. И вот, он понял, что я ему сказала. Тогда ты говорит:- Да, да. Вы бы мне так всё рассказали, я бы вам сам привёз обратно. Ну мне неудобно от колхозников. А я говорю:- Вы не виноваты, Вы бригадир новый. Виноваты те, кто привёл в сарай Вас.
Вот так и жила я и всегда я вспоминаю этого старика, что говорил «Каждый потужит, чтобы тебе было хуже».
Вот я очень соскучилась по Родине. Посадила я всё в огороде, оставила дочь Аню с Колей и Лидой дома. Да еще золовка была, ко мне приехала Елизавета. А я взяла Петю с собой. И вот так было трудно с билетами, едва я доехала. Приехала я на Родину в Костромскую, ночевала ночь, да и говорю:- Я-то на Родине, а где-то мои дети. Какую даль я их оставила. Ночевала я у тетушки ночь, да у другой ночь, да давай собираться обратно. И думаю,- где ребята, там и Родина. Никуда я больше не поеду и ребят никуда не отправлю. И дай Бог нам доехать обратно.
1947 год.
И с 1946-го года я не была больше на Родине. Теперь-то уже все выросли, ну здоровья не стало. В 1947-ом поду стали деньги менять, стало нам легче жить. Я на зарплату могла купить хлеба четыре пуда. Как получала я двести рублей так и получала. А хлеб стал не пятьсот рублей, а пятьдесят рублей. Вот тогда все служащие стали одеваться получше. Тогда я стала хлеб досыта есть. Тогда я стала брать поросенка выкармливать. Стали и ребята подрастать. Аня начала наряжаться в беседу и начала работать в колхозе. А учиться было невозможно, ни обуви, ни одежды, ни хлеба не было. Окончила она четыре класса и всё. А Петя тоже пошёл в колхоз. Дали ему пару коней, самых-то плохих. Он на них боронил. Чужие мы были и слова заложить некому. Всё перетерпели. Куда бы бригадир не посылал, везде шли безотказно. Ну потом и стал говорить:- Таких работников нет, как школьная Дуська (раз я жила в школе, то нас и стали звать школьными) И как её ребята работают,- куда бы их не пошлёшь, везде и всё выполняют.
Стали мы хлеба зарабатывать в колхозе, а деньги я берегла, надо ребят наряжать. Стали мы больше сена накашивать, и стала я больше овец в племя пускать. У меня стал полный двор скота,- корова, телёнок, четыре матки овец, поросёнок, куры, утки. Спущу весной двенадцать штук овец с ягнятами.
Стала я ездить в Ленинград с мясом. Зарежу трех баранов, да и поеду торговать. Да свои-то деньги подкоплю. И всего накуплю. И стала я наряжать Аню и Петю. Стали говорить:- Вот как школьная стала жить, которые охали «Ахти тошно, как будет Дуська школьная жить». А тут они же по другому стали говорить:- Да что ей не жить, она и в школе получает, она и в колхозе работает, она и пенсию получает. Да она не хуже нашего живёт. Да, действительно,стала я жить хорошо. Ребят я приучил ко всей работе, нигде их из десятка не выкидывали, да на таком почёте стали по работе, на весь колхоз. А маленькие Коля и Лида росли незаметно. Летом бегали босиком, а зимой я им валенки сама скатаю, да калоши куплю. Всю зиму и бегают до тепла.
1948 год.
Стало Коле и Лиде по четыре года. Они стали уже помогать. Каждый вечер загоняли уток домой, это была их обязанность. А когда гонят скот из поля, то помогали ягнят загонять. Они знали какие ягнята наши. Лида очень шибко бегала, худенькая была, а ростом как Коля. Дети у меня хорошие, никогда мне против не говорили и ни от какого дела не отказывалися. Раз я поехала в Ленинград и сказала Ане:- Когда будет время, отреплите лён. Нам из колхозу дали по две связки льну. Я уехала, а они вставали вместе с солнышком, такую рань, выходили на солнышко к сараю и трепали лён. А народ-то видит, ходят мимо их, да и дивятся. А я поеду, всегда неделю пробуду с дорогами. Надо продать, и надо купить. А в магазинах то нет, что надо. Бежишь на барахолку. А там из-под полы спекулянты продавали в два раза дороже. Приезжаю домой, а дома полный порядок. Ждут меня, везде чистота. Аня накопит творогу и сметаны, меня встречают. А у меня не было творогу, что там от одной коровы. Где скопить-то? пять человек семья. Вот Петя обижается:- Мама, она нас голодом морила, молока нам не давала. А Аня говорит:- Мама, не верь, я их кормила. Ну эти, Коля и Лида, малы были.
Как приду со станции, а четыре километра идти да с грузом, всегда два пуда, да три бывает тащу, сяду на лавку и не встать. С меня и сапоги снимают и пальто. Рады без души, что мама приехала. А я так устану за неделю-то, от одного шума городского, от машин голова кружилася. А в деревне один сарай в окно видно. Вот и отдыхаю. А соседи-то все ко мне переходят и говорят:- Ахти тошно, Дуська, как твои-то ребята без тебя лён трепали. Да встанут-то рано. Поглядим, а они лён треплят, оба Аня и Петя. Бывало, показывала что куплю. А потом и пойдут по деревне с завистью:- Вот она знает, куда ехать, а мы-то вот дураки-то, не знаем где Ленинград. А она-то всё знает. А одна старушка и говорит:- У ней голова-то сталинская , у Сталина голова-то большая и ума много, лоб большой. Так и у школьной, тоже лоб большой и ума много. С тех пор и стали называть, что сталинская голова. Ну я не сердилася, а всё в шутку принимала. Ведь в каждой деревне свои обычаи. А я-то пожила везде и многих видывала, и где чем дышат лучше всего ни с кем не ругаться.
Раз был праздник.
(Потеряно сколько то текста)
Сажала по шесть грядок. Три грядки продам, а три на зиму. Второй раз с огурцами съезжу. Потом осенью два раза с баранами. Зарежу трёх баранов, свезу. Потом, ещё трёх. А зимой валенок накатаю пар двадцать, да опять в Ленинград. Я так нарядила Аню и Петю, были изо всего клуба наряднее. Я в то время не понимала устали. Спала я два, да три часа в сутки. Горе я своё стала забывать, о сыне и о муже. У меня такая была радость, что дети выросли, да хорошие. Только и слышу:- Ну у школьной и ребята. Нас не стали звать беженцами, а школьная Нюра и школьный Петя. У Пети было три костюма, а у Ани было пять платьев шерстяных — черное, тёмно-синее, зелёное, вишнёвое, коричневое, и платье шёлковое и крепжержет синее. И костюм бастоновый за тысячу рублей купила стального цвета, и крепдешиновое оранжевое светлое. Она была у меня как кукла одетая. Мне было радостно на неё смотреть. Нисколь я не преувеличиваю, всё правду пишу.
А платья-то шила самая лучшая портниха. Она жила на станции Гольнево и её звали Дуся, тёзка моя. Она на Аню шила без примерки, уже на её знала как шить. Когда бы я не принесла, всегда сошьёт без очереди. Но и я для неё, что ей надо купить в Ленинграде, всегда куплю. Только тогда не куплю, когда нет. Да, раз торфу для неё делала вместе с Аней. Как говорится пословица:- Вперёд бросишь, а сзади найдёшь.
А в 1947 году купила я швейную машину за тысячу рублей. После реформы сразу накопила денег. А то все ночи шила руками. А ведь пять человек. По рубахе пять, а по две — десять. Вот, раз я пришла в правление колхоза деньги получать по трудодням. Я получила восемьсот рублей, по рублю на трудодень давали. А тут сидел председатель колхоза и говорит :- Вот это я понимаю, вот это работник, не колхозница. Получал ли столь колхозник? Нет! А наш бригадир и говорит:- Таких нет у нас людей, как школьная семья. И на всё правление. Я прослезилася от радости, какая я счастливая, столь я пережила трудностей. А счастье моё — здоровая была. Никакое горе меня не сломило. Всё пережила и детей не бросила и всех воспитала и всех нарядила.
Ну была я очень строгая во всём. Это жизнь заставила такой быть. Забыла описать, что в 1945-ом году меня наградили медалью «Мать-героиня» за пятерых детей. Убитого Колю тоже посчитали. И вот, получила я столь денег-то и на эти деньги я купила Пете костюм. Очень хороший, как на его шитый. А ведь брала без размера. Сказала продавцам,- вот подберите на этого паренька, стоял молодой человек в магазине. Спросили,- какой надо размер, а я не знаю какой. Ну удачный был костюм. Спросите сейчас Петю и Аню. Я думаю, они и сами уже помнят всё. И как наряжала, и как они гуляли, особо в Накатах. Это им запомнится на всю жизнь. Эта девочка в красненьких платьицах, эта милая детка моя. Один паренёк за ней ухаживал. Ну эту историю Аня добавит. Гремели мы на весь район. Я стала стесняться в Острове валенки продавать и возила в Ленинград.
1949 год.
Аню назначили на лесозаготовки, и очень далеко, за Ленинград в Оятский район. И назначили трёх девчёнок из колхоза. А полна деревня мужиков. Так было обидно, опять сиротская доля. Проводила я Аню, слёз пролила я по ней. Ну одна была она там с октября месяца 1949-го года по апрель 1950-го года. Приехала по воде, весь снег растаял. В клубе зиму никого не было. Петя ходил в клуб, придёт домой и говорит:- Нашей Нюрки нет, и в клубе три крестом.
Когда она приехала, да как собралися у школы народу. Все, стар и мал. Четыре деревни. И она так поправилася да загорела. Как будто с курорта приехала. Ели они досыта, работали на воздухе. А года-то, в самом соку, 18 лет. План она выполнила, получила премию шестьсот рублей, привезла домой. Тогда я её проводила в гости в Ленинград:- Погости, да сфотографируйся в таком возрасте, дорого будет посмотреть. А на свою премию, я сказала, купи чего хочешь. И она купила себе патефон и пластинок. Тогда у нашей школы, так было весело. Даже в будний день собирался народ послушать пластинки. Потом мы делали торф для топлива. Во Псковской лесу нет и делают торф, и сушат, и топят печь. Вот мы сели отдыхать, а дочь Аня и говорит:- Мама, я сейчас думаю, как сон вижу,- ехала бы я на новом велосипеде и в новых туфлях, и на руке часы. А я говорю:- Давайте продадим корову, да и купим. А у нас была корова да нетель. А нетель-то молодая и отелилася. А не разрешали двух коров держать. Нам надо продавать какую-нибудь. Вот и повели с Петей на базар в мае месяце. Продали за тысячу рублей. Да своих накопила денег, зарплата да пенсия. И поехала в июне месяце в Ленинград. И купила Пете велосипед за восемьсот рублей, а дочери часы за четыреста рублей, да цепочка 50 рублей. Не хватило коровы, добавила. Ну было радости-то. А кататься Аня уже научилася. Потом Пете купила гармонь, тоже очень хотел. Вот стало у Пети велосипед да гармошка. А у Ани патефон да часы. Это сверх всего наряда. А ребят то сколь за Аней гонялося. Все её были, выходи замуж за любого. Ну она мне сказала:- Не хочу я здесь жить. Как мы чужие-то, всегда будем чужие, да при том беженцы. Сколь в деревне мужиков, а меня назначили одну на лесозаготовки. Да. Она была права.
Стали только все завидовать, стало больше ненависти. Учителя, с которыми я долго работала, уволились. Одна вышла замуж, а вторая уехала в Гатчину. А к нам прислали такую шлёпу. Ленивая, ничего у ней нет. Стала по народу говорить, что уборщица живёт богаче чем учитель. У неё как птицетрест, сколь кур да уток. И правда, куры, да цыплята, да утки, да всегда было три гуся. Да голубей было много. Да как все вместе-то.
1950 год.
Стала нас учительница притеснять в огороде. Сказала, что я возьму подопытный участок. Стала притеснять и в сарае. У неё была корова, ну горе, а не корова, за скотом тоже надо уход.
В конце 1950-го года стал к Ане свататься парень, в Ленинграде жил. А сам родом из Чухломского района, деревни рядом были. У него своя комната, мать, сестра. Ну и решила моя дочь выйти замуж в Ленинград. 3-го февраля 1951-го года я сделала свадьбу. Жених приехал, в деревню и в сельсовете записалися. Надо бы в Ленинграде записываться-то. Ну ей паспорта не давали. А когда записалася, то выдали паспорт. И оставила она всех ухажеров во Псковской. Ну по сиё время у нас дружба, со Псковской. И сейчас гостимся в деревне Пупорево. И приходится вспоминать свою тяжёлую жизнь.
А свадьбу то я сделала на славу. Говорили:- Ну у школьной и свадьба, таких мы не можем сделать. Водки много было, да я браги наделала. И позвала я одну молодежь. Так плясали, досыта.
1951-й год.
Выдала я дочь замуж. Сын Петя на тракториста выучился. Я раз пришла в свой магазин, а меня из соседней деревни женщина спрашивает: — Ну как ты живёшь-то, только с маленькими осталася? А я говорю:- Сын ещё большой. Разве у тебя сын ещё есть? А учительница из другой школы ей и говорит:- Разве ты не знаешь её сына? Что нарядней и красивей и степеннее. Нет таких ребят в клубе, как её сын. А со мной стояла наша соседка, та слушает. А у неё тоже сын, ровесник Пети. Мне неудобно стало, что моего так хвалили, а еённого нет.
Потом пришла весна. Снова учительница начинает отбирать огород. И если пошла такая зависть, то лучше уйти с работы. Пете дали в эМТээСе комнату, в деревне Федосино. Я решила туда уехать, место хорошее. А мне в сельсовете не советовали уезжать. Секретарь сказала:- Тётя Дуся, потерпи. Её скоро снимут с работы — только доучит учебный год. Ну я поспешила,- май месяц, надо огород садить, а то без картофеля останешься, годовое дело. И я переехала за семь километров в МТээС деревню Федосино. Ну там комната была большая.
А со скотом моим горе у меня было. Корова, нетель, теленок, поросенок, четыре матки овец и восемь ягнят и куры. Как я привела такое-то стадо, так все глаза и выпучили:- Вот так и вдова! без мужа, а такое хозяйство имеет. А там живут жёны, одна коровка. Сидят весь день у магазина и лясы точат, а мужавья в эМТээСе работают. Вот дали мне угол, где корову поставить, да овец. А поросенок да нетель в другом хлеве. А кур девать некуда. Я загнала их к одной соседке, а яйца уже не спрашивала. Даст, так даст, а что и нет.
Пришёл сенокос. Кому покосу дали хорошего? Директору, помощнику директора, замполиту да таким головкам. А нам, рабочим, не покос, а горе. Ну я и думаю,- это не житьё. Я только накосила на одну овцу. Корову надо продавать. А без коровы в деревне не житьё.
Пришла осень 1951-го года. Петю взяли в армию. А что я с такими малышами буду делать. Поехала я в Ленинград, посоветуюся с дочерью — в колхоз вступать или в Ленинград ехать. В Ленинграде с пропиской было плохо, только дворников прописывали, да в школу уборщиц. Я поузнала, приехала домой. А ребят то оставила у соседки — Колю и Лиду, им было по шесть лет. Я продала корову и нетель. Стала я резать баранов и возить мясо в Ленинград. А корову и нетель в Острове на племя взяли. Кур я рубила с лёта, всё равно бесполезно было держать. Как я стала резать овец маток, у меня сердце разрывалося от жалости. У двух по двоим ягнятам оказалося и у двух по тройне. Такое было, горе, такой переворот получился в жизни. А вот все говорили:- Не к добру, когда корова двойню принесёт. Вот у меня так и получилося. Когда я выдала дочь замуж, в феврале, а в марте корова принесла двойню и обе телки. Четыре овцы объягнилися и всё попарки и всё овечки. Поросенка купила, свинка и нетель была взята от хорошего племя. И когда я уезжала в 1941-ом году с родины, тоже корова двойню принесла, тоже на перевод. Продала я всю скотину и собрала ребят и поехала в Ленинград.
Надо мной охали все:- Ну и женщина смелая, ну ка с такими ребятами поехала. Одиночки ездили, да обратно приехали. Как она рисково живёт. А я сказала:- Трусы в карты не играют. Приехала я не к дочери. Куда там мешать, не сама она хозяйка. А я въехала к знакомой и пошла искать работу. И как-то скоро нашла. Иду, а мне знакомая говорит:- Ты не нашла работу? А я сказала,- Нет. Она и говорит,- пойдем, я видела на двери записку:- Требуется техничка и предоставляется жилплощадь. Вот я и пошла с ней. И меня сразу взяли. Ну жильё было — горе. В такую комнату привёл завхоз, не войти, везде насрано.
Завхоз был пьяница и порядка в школе не было. Я конечно, согласилася. Я бы была одна, а то ведь двое детей, да маленькие. Пошла я за ребятами. Привезла. Рада и этому углу. Ну я так похудела с тоски, как нарушила хозяйство. Вроде крепилася, не давала себя в обиду, ну сердце и нервы не выдерживали. Я так похудала, одни кости были. Сейчас есть фотокарточка, какая я была в 1951-ом году. Ну я не каюся. И не каялася и тогда, что нарушила хозяйство. Там была чужая крыша и здесь чужая. Ну хоть здесь хлеб был хороший. Приехала я в Ленинград в ноябре месяце 1951-ого года. А школа-то была мальчиков, и мой Коля 1-го декабря пошёл в школу добровольцем не записанный, уж больно хотел учиться. А я их не хотела отдавать, они из двойни были маленькие. А Коля так и стал учиться.

фото из семейного архива Травниковой В.В.
1952 год.
Петю угнали служить на Дальний Восток. Письма шли целый месяц, едва дождешься письма. И дочь, когда выдала, тоже так тосковала, нигде места не находила. Да еще хозяйство нарушила. Сейчас я не представляю, как я всё пережила. Ну я стала работать в школе. Мне работа была знакомая. Я себя и здесь показала. Кто бы по моему этажу не прошел, везде был порядок. Ко мне на этаж и врачи не стали ходить, махнут рукой и пошли дальше. Доверие было до всего. Ребятам наказывала, чтобы нигде и ничего не дотрагиваться. Я была очень строгая. Я боялася, что без отца растут. Ну никто и никогда не сказал,- вот твои ребята что-то натворили. Когда Петя и Аня были тоже маленькие, и никто ка них тоже не обижался. Сейчас стали Лида и Коля тоже самое, примерные ребята. Дай Бог всем матерям таких детей, как у меня.
Прожила я в школе с 1951-ого года до 1966-ого года. В школах платили мало, по двести рублей в месяц, по сейчасным деньгам двадцать рублей. Как надо было жить? Двадцать рублей на одной работе, да двадцать рублей по совместительству, да пятнадцать рублей пенсия. Да вязала я по ночам жакетки. Как месяц, так и жакет связывала за десять рублей. А надо купить и пальто, и форму, и платье, и ботинки. И в пионерский лагерь тоже надо и сандалии, и майки, и трусы, всего надо. И мне приходилося питаться на один рубль в день троим. Я покупала с получки один килограмм сахара и один килограмм песку и до следующей получки. Если хватало, то пили воду, а чай-то я и не покупала. А батон тоже с получки, а то брала самую дешёвую булку. Ну я была очень рада, что хлеб был досыта. Да притом хороший. А каких фруктов я никогда не покупала, ни яблок, ни ягод, ничего. Пока своя дача не стала.
1953-1954 года.
Живу помаленьку. Взялася я работать по совместительству в Доме Пионеров. И вот, расскажу случай. Там завхозом была эстонка. Везде она меня посылала по магазинам и по школам. В Доме Пионеров были разные кружки. Кто на баяне играл, кто на рояле, кто акробаты, кто в духовом оркестре. И был балет. Я всё знала, как что называть. И вот раз меня послала завхоз в магазин, за багетом. А я никогда этого слова не слыхала и не видывала, что такое багет. Завхоз научила меня расписываться за неё. Я приехала в магазин, ещё с одной уборщицей. Вот, мне заведующий магазина и говорит:- А как вы повезете двое? Вам не увезти. А я ещё и не знаю, что везти и сказала:- Увезём. Пошла я получать этот багет и гляжу — как же мы повезём, не знаю. Завхоз-то нас послала на трамвае. А тогда по проспекту Стачек ходил 22-й трамвай, а время-то пять часов вечера, все с работы едут. Вот мне заведующий магазина и говорит:- Вы садитесь на троллейбус и поезжайте до Московского вокзала, и возьмите там грузотакси.
Я поехала к Московскому вокзалу, подхожу я к большой машине. А машина-то ЗИМ. А я не понимала, что такое ЗИМ и что такое грузотакси. Подошла я и спрашиваю шофера:- Ваше грузотакси?. Шофер поглядел на меня и наверное подумал, что бабка-то дура. И он говорит:- Да, да. Моё грузотакси. А что вам надо? А я и говорю:- Мне надо балет везти. А он спрашивает:- А куда? Я сказала:- В Кировский район, в Дом Пионеров. Тогда шофёр спрашивает:- А поместится в машину? А я говорю:- Поместится и окидываю глазами машину-то. А он опять спрашивает:- А сколько их? А я говорю:- Не так много, как длинные. А он:- А как длинные? А я и говорю;- Да побольше двух метров. Да как он захохочет надо мной. Тут подошло других шоферов много, кругом машины обступили меня. А я и говорю:- Чего вы зубы скалите? Я же с ним самостоятельно разговариваю. А они опять захохотали. И мой-то шофёр тоже не может терпеть, смеётся. А мне-то не до смеха, я стараюся договориться. Тогда мне шофер и говорит, что наша машина дорогая. И я опросила:- А сколь стоит? А он мне и говорит:- До Нарвских ворот тридцать рублей. А я говорю:- А там одна остановка, я уплачу. У шоферов глаза на лоб, что мол бабка-то нищая, а так деньгами кидается. А я была в шубе, на голове вязаный платок, сапоги с калошами, а пятки голые. Потом шофер спросил:- Где ваш балет находится? А я говорю:- На Невском, угол Литейного. И он меня понял тогда и говорит:- У вас не балет, а багет, наверное? А я тогда:- Да, да, багет. Ну к лешему, перепутаешь. Вот сели мы и поехали. Пока погрузили, да доехали до Дома Пионеров, и начикало на пятьдесят рублей. Подъезжаем, выходят директор и завхоз и плечами жмутся:- Вот так Макарова! на чём подъехала. Ну и заплатили пятьдесят рублей. А насмешила-то я на все сто рублей.
Вот так и приходилося всё переживать.
Ну я потом рассказала, как я машину нанимала. И даже просили рассказать ещё раз. Ну и все смеялися досыта. А я — что? Во-первых, я неграмотная. А во-вторых, в городе я не жила и многих слов не знала. А вот похоже балет и багет. А ещё контрабас и колумбус. Ещё типография и фотография. Тоже похожи. Ну хоть я и посмешила ну, зато, много я узнала в Ленинграде, не каюся. Всё сошло. И проработала я в Доме пионеров три года по совместительству. А в школе, где жила, была одна смена, ребят после войны было мало. А потом я стала в школе две смены работать, да и три.
Стали мои ребята подрастать. Надо обоим пальто и форму в школу, ходят оба. Так и тянула их. Ну ходили в школу в хорошей форме, худую не покупала, невыгодно тряпки.
1955 год.
2-го января пришёл Петя из армии домой к маме. Когда его брали в армию, мы жили во Псковской области. А закон такой,- где призывался, туда и домой направляли. А я-то переехала в Ленинград. И вот, пошёл Петя прописаться в райисполком, в военкомат, в милицию. Везде отказ. Только и говорят, где призывался, туда и поезжай. Все его заявления насмарку.
А как отпустить сына одного в чужую сторону? И вот, я написала сама, своей рукой, заявление на райисполком и пошла. Заняла я очередь в семь часов утра, а приём был в семь часов вечера. Вся переболела за это время. Что-то скажут,- отказ или разрешат? Я описала всё, что сумела. И что дом не раз горел, и про войну. И что сына немцы расстреляли, муж погиб на фронте. И что я жила во Псковской области беженкой. У меня там нет ничего. И поэтому прошу прописать сына ко мне. И вот пришла наша очередь. Захожу я с Петей в кабинет в райисполкоме. Он нас принял вежливо. Сказал:- Садитесь и что скажите? Я подаю заявление, а у самой руки трясутся. Он стал читать, а у меня слезы градом. Когда он прочитал и говорит:- А какая у Вас площадь? Я сказала:- четырнадцать метров. А он сказал:- Да, площадь-то мала. А я стала просить:- Не оставьте без внимания, куда я отправлю его одного? И тогда он стал писать резолюцию на разрешение. И Петю прописали на казённую площадь ко мне в школу. И только тогда, он пошёл искать работу. И устроился сперва плотником. А он у меня тракторист и мог бы машину водить,- ну мало грамоты, четыре класса. И вот Петя пошел в вечернюю школу, окончил семь классов. А потом перешел работать столяром-краснодеревцем. И работу освоил хорошо. И в скорое время дали ему 6-й разряд. А в 1960-ом году дали ему комнату, как хорошему рабочему. Никаких замечаньев за ним не было, только всё отлично. Вот и проводила я Петю в свою комнату 16.10.60-го года. А в 1962-см году женила.
Так и жила я в школе безизменно. В 1958-ом году я в первый раз собралась к братке, Ивану Константиновичу Клюеву, в Ялту вместе с сыном Колей и сестричкой Веренией. А Лида с Петей ездили на следующий год.
А в 1959-ом году уже который раз я от смерти ушла. Мыла окна в школе, на третьем этаже. А рамы были слабо вставлены. После ремонта рамы перепутали и неправильно вставлены. Я держалася двумя пальчиками за косяк и протирала среднюю раму. А рамы должны открываться вовнутрь. А эта-то рама пошла вниз, наружу. Я и не знаю, как я устояла. Меня качнуло туда-сюда. Ну только верю судьбе. Сейчас я не представляю, как я шатнулася в эту сторону, в класс. А был случай в этом же году женщина упала и насмерть. И вот, как услыхали как упала рама, завхоз и бежит. Испугался, ему бы попало, он незаконно нас заставлял мыть окна. А окна-то высокие. На подоконник стул ставили и только тогда доставали до верха. Ну я очень напугалася и не могла больше мыть так. А стала канат привязывать к батарее и на себя, и если упаду, канат сдержит. Вот, всё же есть судьба у человека.
Дети росли, училися. Младший сын Коля окончил семь классов и пошел в техникум, четыре года учился. А потом в институт, шесть лет отучился. А сейчас работает инженером.
Дочь Лида окончила семь классов и пошла в ПТУ на продавца учиться. И работала хорошо два года. Ну перешла на радиозавод намотчицей работать. В магазине не было выходных дней и в воскресенье работала. Из-за этого и ушла. А потом, вскоре, воскресенья стали выходными.
Старшая дочь Аня работает на Ленфильме много годов, не знаю с какого года, рабочей. У неё тоже мало грамоты. Война всё наделала. Училася она хорошо, до войны было окончено три класса, но тут война, голодовка. Школ не было четыре года. Бедность, сиротчество. Пошла работать. Да и не одна она, а большинство её ровесников все работать пошли, не до учения, разруха кругом. Сейчас у Ани два сына. Старший сын с 1951-ого года, а младший с 1960 года рождения. А у Пети сын с 1963-го года.
В 1960-ом году поставили меня на очередь на жилплощадь. Очередной номер был пять тысяч. И прожила я в школе до 1966-го года и получила квартиру. Благодарю всех руководителей и рабочую силу и всё наше советское правительство. Хотя сколь я настрадалася и наскиталася по чужим крышам, а под старость я отдыхаю. 1966-й год был у меня радостным. Я кончила работать, взяла расчёт, на пенсию пошла. А летом я ездила в Ялту к брату и Боря мой внук, был со мной. 17-ого сентября я приехала домой, а 24-го справили новоселье в тот же день, народа было десять человек. А было холодно, окна были не заделаны, газ не включен, замерзали ночью. Ну утром взялися за работу. Николай, зять и Петя помогали — заделали окна, приколотили карнизы, в шкафу полки сделали. Всего поработали хорошо. А потом я сделала настоящее новоселье. Всех гостей созвали, было тридцать человек. И как-то всего хватало, все были довольные. А мебель справляли по деньгам, не сразу.
1967 — 1977 годы.
1967-й год тоже был хороший, в сентябре месяце дочь Аня получила квартиру. Тоже была большая радость. 4-го декабря 1970-го года Лида вышла замуж. Свадьба была шикарная, гостей было много, гуляли три дня. В августе 1971-го года Коля женился. А 5-го октября 1971-го года Лида родила сына — Костю. В 1972-ом году у Коли родилася дочь Аня. Делали крестины.
Живут все хорошо.
В 1975-ом году Лида купила телевизор цветной за 650 рублей.
Ну живу, как в сказке и тепло, и светло, жить, не изжиться. Да только болеть стала часто и серьезно.
31-го января 1976-го года я отмечала юбилей. У меня должна была быть золотая свадьба. Ну а как золотого нет, я справила Евдокию-Великую мученицу и пятьдесят лет моей трудовой и семейной жизни. Собрала всех моих землячек по Костромской, всю свою родню. Коля стихи мне посвятил. И наплакалася я и посмеяться было над чем. Прошло всё хорошо. В общем, дети у меня все женатые, все живут хорошо. У меня шесть внуков и внучка. У Коли кроме дочери еще сын Павлик с декабря 1977 года рождения. А у Лиды второй сын Коля и тоже с декабря 1977 года. И я на этом кончаю писать. Потому что стала стара, стало нечего писать. Живу хорошо, слава Богу. Надо уже умирать.
Дальше пишите сами.


Бывший деревенский пруд.
Фото Михаила Шейко, 2012 год.

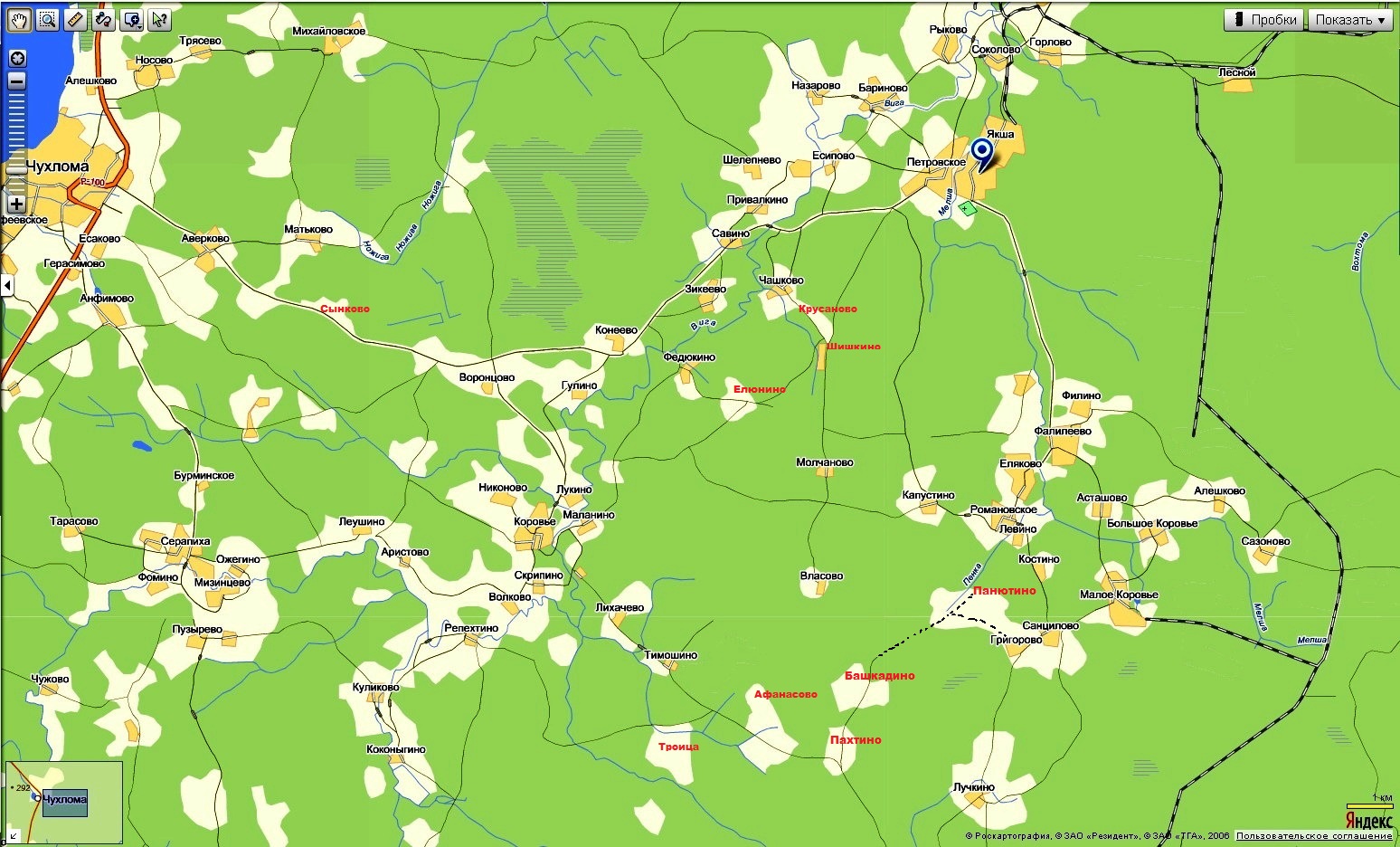
Прекрасные воспоминания! Очень перекликается с судьбой моей бабушки Семеновой Матрены Кузьминичны 1904 г.р. Все было так же: и жизнь на хуторе и в колхозе, также мужа забрале в 44 году и он пропал без вести, осталась одна с тремя девочками, но всех подняла, выучила, дочки переехали в Ленинград, а бабушка так и осталась жить в Псковской области, деревня Исса была недалеко от описываемых мест Евдокией Константиновной. Спасибо!
Большое спасибо родственникам и тем, кто сохранил воспоминания автора и опубликовал их. И самому автору, конечно! Это бесценно — узнать жизнь того времени, как она была, из первых уст. Буду читать с нынешними школьниками обязательно, чтобы знали.
Я нашла цепочку родственников. Моя прабабушка Екимова Мария Ивановна ид.Романовское. Живу в Санкт-Петербурге. На семейном кладбище в д.Ильинское была 26 сентября этого года.Очень хочу найти связь с родными.
И ещё, Александр, к этому следует, возможно, добавить, что воспоминания Евдокии Константиновны мы опубликовали в нашем журнале «Чухломская быль»( в двух номерах), с согласия , разумеется, Михаила Шейко, который нам этот материал предоставил.
Уважаемые родные Евдокии Константиновны! Я сотрудничаю с московским «Мемориалом» и от имени этой организации отправил на адрес редакции (mail@kostromka.ru) такое письмо:
Уважаемая редакция! В архиве московского «Мемориала» есть два замечательных текста: воспоминания Николая Скрылева и Анфима Пономарева. Оба из крестьян, первый вернулся в деревню, второй нет. Мы планируем сделать из этого книгу. Случайно зайдя на ваш сайт (что делать, столица подслеповата) мы обнаружили пронзительные воспоминания Евдокии Макаровой. Они бы этому сборнику дали новый масштаб и целостность. Как вы на это смотрите? Жду отказа или приказа следовать в заданном вами направлении.
Ваш Александр Щербаков.
Пока ответа не получил и обращаюсь с той же просьбой и вопросом к Вам. Тел.: +7916 4024795; al.scherbak@gmail.com
Александр, добрый день. Ваш вопрос переслал родным Евдокии Константиновны.
По цепочке этот текст до меня дошел. Все 140 миллионов должны прочесть
Великая Женщина… Спасибо за то, что выложили этот потрясающий текст.
Очень поучительно и познавательно…После прочитанного даже стыдно жаловаться на что-то в наше время
Здравствуйте все, кто прочитал или еще будет читать эти воспоминания! Я передала Михаилу эти записки Евдокии Константиновны, сама занимаюсь родословной семьи, но узнала еще не все. Стариков уже нет и спросит не у кого. Наша Евдокия Константиновна сделала великое дело, написала о своей жизни. Теперь и я пытаюсь найти родню по ее запискам, но была война, потом многие не вернулись в родные края.
Наш дед Иван Константинович Клюев был на родине где-то в 1970 году. Могилы родителей еще нашел на кладбище, были живы тетки в Романовском из Екимовых.
Буду благодарна всем, кто расскажет мне о родне.
Живу в Петербурге.
Очень интересно было читать.Спасибо!!!
Прочитала на одном дыхании. Да… Какие испытания может вынести человек!
Антонина, спасибо за отзыв.Воспоминания Евдокии Константиновны действительно очень интересны и вполне могли бы взяту за основу сериала жизни в деревне.В данных воспоминаниях только правда жизни.Родственники Евдокии Константиновны Макаровой (Клюевой) передавшие мне для публикации «Евдокия-Великомученица» надеются на отклик родственников с которыми по разным причинам утеряна связь.Они приезжали из Санк-Петербурга на родину предков на один денек в 2013 году, останавливались на ночлег у нас в д. Бариново. В д.Елюнино мы не ходили, а посетили только кладбище в д. Ильинское.
КАК МНОГО знакомого заветного.Сколько знакомых имен-деревень .Зачиталась-словно я жила в то время.Знакомо все-по рассказам родителей.Да еще и по всей вероятности кто-то с родственной стороны приходятся.Как все правильно-точно и красиво написано.ГОРЬКАЯ ИСТИНА!Спасибо МИХАИЛУ за такие воспоминания .Можно ФИЛЬМ показать. Для молодежи полезно.Вот как жили люди и оставались ЛЮДЬМИ.