
Исходя из имеющихся данных, мерянский язык следует отнести к мертвым языкам, не имеющим письменных памятников в виде связных текстов или хотя бы разрозненных предложений. Однако степень его бестекстности относительна. Мерянский язык передал, видимо, русскому (особенно областному) языку часть своих фразеологизмов, а значит и соответствующих минимальных текстов-предложений в виде калек, в которых отразился только во внутренней форме [Ткаченко СИФСФУЯ: 227-235]. Однако в случае реконструкции соответствующих мерянских слов в их фонетических и грамматических формах есть возможность восстановить и внешний облик соответствующих мерянских фразеологизмов, а тем самым — и небольших текстуальных фрагментов мерянского языка. Наряду с подобными оборотами есть и фразеологизмы, которые в русских говорах на бывшей мерянской территории восходят непосредственно к мерянскому языку. Как и калькированные мерянские фразеологизмы, они принадлежат, как правило, к языковым формулам (формулам речи), являющимся едва ли не наиболее стойкими из фразеологических оборотов. Реконструкция и интерпретация данных предложений-фразеологизмов, конечно, проще, чем реконструкция исходных мерянских оборотов на основе их калек, однако имеет свои специфические трудности, объясняемые как тем, что упомянутые выражения ввиду их частой употребляемости подвергаются эллиптизации, так и тем, что в силу их инородности в русской речи они подверглись определенным видоизменениям.
* В связи с невключением данной главы в первое издание книги (Ткаченко О.Б. Мерянский язык. — Киев, Наукова думка, 1985.— 207 с.) при ее отдельном издании под названием «К изучению субстратной фразеологии» в книге: Языковые ситуации и взаимодействие языков (Киев, Наукова думка, 1989.— 204 с.), с. 61-76 был дан список сокращений источников, не совпадающий с принятым в книге 1985 года и в настоящем издании (стр. 311-313). Мы сохранили при данной главе (см. стр. 136) сокращения, не вошедшие в аппарат настоящего издания (стр. 311-313, 318-323), в том виде, как они были приведены в публикации 1989 года. — Прим. ред.
Восстановление любого мерянского фразеологизма, представляющее интерес прежде всего с точки зрения фразеологии и синтаксиса, требует и всестороннего фонетического, грамматического и лексико-семантического анализа, связанного с этимологическим истолкованием и синтезом полученных результатов, при котором одинаково важны и сопоставительно-типологический подход, и сравнительно-исторические данные финно-угорских языков. Поэтому вопрос о реконструкции мерянских фразеологизмов дает возможность через нее взглянуть конкретно и на общую проблему восстановления дославянских языковых субстратов.
К числу подобных фразеологизмов принадлежит русский (диалектный) приветственный оборот Елусь поелусь, записанный в бывшем Солигаличском уезде Костромской губернии (ныне Солигаличский р-н Костромской обл.). В «Словаре русских народных говоров» [СРНГ VIII: 349] он объясняется как «хлеб да соль (приветствие во время обеда)». Выражение записано в первой половине XIX в., поскольку в XVIII в. диалектные слова и выражения почти не записывались, кроме того, данное выражение впервые фиксируется в «Опыте областного великорусского словаря» 1852 г., где предпринята и попытка его объяснения:
«Елусь (сов. поелусь) повелительное наклонение, употребляется во время обеда, в виде приветственного междометия: хлеб да соль» [ООВС: 54]. Таким образом, составители словаря (а возможно, еще лицо, записавшее выражение) воспринимали и слово елусь, и форму поелусь как глагол в повелительном наклонении, причем элемент по- в форме поелусь рассматривался ими как приставка по-, служащая для образования совершенного вида, ср.: ешь — поешь, пей — попей, неси — понеси и т.п. Выражение в целом рассматривается здесь если не как полностью русско-славянское, то во всяком случае как оформленное согласно правилам русской грамматики, в частности в видовом отношении. Тем не менее именно с точки зрения славянских элементов русского языка эти слова и их форма труднообъяснимы. Правда, если считать форму производной от глагола елузить, то можно было бы принять как возможную форму повелительного наклонения елусь (с отражением фонетического оглушения), ср. такую же фонетическую форму волтусь (орф. волтузь) от диал. рус. волтузить (укр. вовтузити) «бить кого-либо (что-либо), схватив его». Глагол елузить не обнаружен, зато в говорах близких местностей представлены глагольная форма наелузиться «наесться до отвалу» (Костр. губ. — Гал) [МКНО] и несколько видоизмененная форма наюлызиться «то же» (Костр. губ. — Кин) [МКНО]. И по форме, и по значению оба глагола скорее всего производные от елусь. Таким образом, ничего не объясняя, они возвращаются к тому же выражению, создавая явный порочный круг. Тем не менее эти данные не бесполезны, поскольку они косвенно указывают на употребление выражения елусь (поелусь) — по крайней мере в прошлом, до того как в Солигаличском районе (уезде) было записано это выражение — также в бывших Галичском и Кинешемском уездах Костромской губернии (ныне в Галичском р-не Костромской и Кине-шемском р-не Ивановской областей). Поскольку все три района были в прошлом местом обитания мери, вполне закономерен вопрос, не является ли рассматриваемый оборот мерянским, сохраненным частью русских говоров на русской языковой территории. При этом чрезвычайно важно сразу же подчеркнуть, что все три местности принадлежат именно к бывшей территории распространения мерянского и никакого другого финно-угорского языка и ввиду этого расположены в настоящее время на собственно русской языковой территории, вдали от каких-либо финно-угорских народов и их языков.
В пользу мерянского происхождения оборота также говорят его собственно языковые особенности. Выражение елусь поелусь при этимологическом анализе обнаруживает возможность его расчленения на слова, с одной стороны, несомненно финно-угорские по происхождению, с другой — присущие в своей своеобразной форме, по-видимому, из финно-угорских только мерянскому языку. Лексема елусь здесь отнюдь не одинока, на бывшей мерянской территории есть и другие, явно связанные с ней слова, которые, являясь финно-угорскими по происхождению, дают основание причислить их к мерянским ввиду своего своеобразия. Ср., например, такие диалектные (и арготические) слова с той же территории, как неёла «нет» (букв. «не есть»), эст. Та еi оlе орilапе1 (букв. «Он не есть ученик(ом)») (Яр. губ. — Углич) [Свеш.: 93] не1ола «нет» (Твер. губ. — Каш) [ТОЛРС XX: 166], неёла «неудача» (Костр. губ. — Не-рехт) [ООВС: 124], ёла «есть» (Яр. губ. — Углич) [Свеш.: 93] *еi оla > *е joаl) «не есть»; форма ёла «есть» образовалась, очевидно, уже на русской почве от неёла «нет (не есть)». Что касается явно вторичного значения «неудача» (неёла) и «удача» (ёла), то с ним, возможно, как калька частично связано рус. (диал.) есть «имущество, приданое» (Костр. губ.) [МКНО], а также формы того же корня типа ульшага «умерший, покойник» [Свеш.: 92 — Углич] (по образцу бедняга, трудяга от ульша «бывший» с формантом -ша, связанным с мар. -шо (колы-шо «умерший»), ср. рус. (Яросл., Костр.) побывшиться (букв.) «стать бывшим, то есть умереть» [ЯОСК], ульшил «умер» [ЯОСК], [Свеш.: 92 — Углич], ульшили «убили» [ЯОСК], [Свеш.: 92 — Углич] (два последних глагола образованы также от ульша «бывший»), р. Ульшма (букв.) «бывшенье, т.е. гибель, смерть» (Костр.).
Все приведенные выше слова представляют собой образования, связанные с финно-угорским глаголом *wоlе — «быть», ср.: ф. оllа «быть», эст. оlеmа, морд. (эрзя, мокша) улемс, мар. улаш «то же», коми волi «был», удм. вал «был», хант. (казым.) вðл»ты «быть, жить», манс. 0li «будет», венг. vоlt «был» [ОФУЯ: 417; КЭСКЯ: 65, 67, 71; MSzFUE III: 669-671; SKES II: 427-428]. Своеобразие мерянских форм языка обнаруживается в том, что часть их, связанная с глаголом быть — как правило, это формы, где исходное корневое ол- перед гласным, —получила перед начальным о- вторичное й -, а формы, где в следующем после ол -слоге гласный выпал, в результате последовавшего удлинения заменили первоначальное о- позднейшим у-. Этот процесс вообще характерен для мерянского языка, ср. мер. *urma «белка» при ф. огаvа «то же». Вследствие сказанного форму написания елусь следует понимать или как орфографическую передачу действительного фонетического елусь (случаи подобной неточности встречаются и при передаче мерян-ских по происхождению местных названий, ср. орфографические Бекса, Челсма в Галичском р-не Костромской обл., произносимые Бёкса, Чёлсма), или как отражение действительного произношения, где согласно особенностям фонетики русского литературного языка безударное -ё- было заменено -е- (для севернорусских говоров -ё- характерно не только в ударной, но и безударной позиции).
1 Таким образом, рус. (арг.) неёла отражает, видимо, в качестве полукальки форму мерянского отрицательного спряжения.
Как бы то ни было, исходя из других известных форм глагола быть в мерянском языке, отраженных в лексике постмерянских русских говоров, первоначальной, ме-рянской, следует признать форму ёлусь.
Ввиду того, что слово ёлусь, несомненно, является глаголом и в то же время выступает в приветственном обороте, где самым естественным есть доброе пожелание, наиболее логично его рассматривать (в чем можно согласиться с его трактовкой в словаре) как форму повелительного наклонения. Но поскольку производные от него или связанные с ним глаголы наелузиться, наюлызиться имеют значение «наесться (досыта)», а глагол ёлусь — это одна из форм глагола быть, форму ёлусь нельзя связать со значением «ешь (наедайся)», а следует рассматривать только в качестве одной из форм повелительного наклонения глагола быть.
С формальной и семантической точки зрения логичнее всего видеть в ёлусь форму 3 л. ед. ч. повел. накл., поскольку с семантической точки зрения в пожелании, связанном с едой, трудно представить себе глагольную форму со значением «будь», больше напрашивающуюся при пожелании здоровья (будь здоров!). Возможность форманта -сь в качестве показателя 3 л. ед.ч. повел. накл. подтверждают многочисленные параллели из других финно-угорских языков с суффиксом -s-, как полагает Б.А.Серебренников, первоначально суффиксом притяжательности 3 л. ед.ч., ср.: морд. кундазо «пусть ловит» [Серебр. Ист. морф. морд. яз.: 167], мар. luδ-sо «пусть читает»2, саам. bottu-s «пусть приходит», возможно, также коми (med) munаs «пусть пойдет» и удм. (med) munoz «то же»3.
Следовательно, значение слова ёлусь (зафиксированное елусь) следует истолковывать как «пусть будет», букв. «пусть есть» или, прибегая к помощи языков, позволяющих передать данную форму в ее синтетическом (однословном) виде, перевести ее с помощью нем. (es) sеi или фр. sоit.
Поскольку форма ёлусь и в корневой и в суффиксально-флективной частях обнаруживает себя как чисто финно-угорская, мерянская, возникает повод для сомнения в интерпретации элемента по- как приставки уже потому, что в данном случае речь идет, очевидно, не о кальке или полукальке, а о сохраненном в русской народной фразеологии подлинном мерянс-ком фразеологизме. Заимствование же морфологического форманта, тем более префикса, в мерянский язык маловероятно, поскольку он, как и все финно-угорские языки, по-видимому, не знал префиксации, которая значительно позже стала развиваться в некоторых финно-угорских языках (в частности, венгерском и эстонском). Более
2 Другого мнения о происхождении -s-(< *s-) придерживается И.С.Галкин [Галкин: 140].
3 Ср. у Б.А.Серебренникова [Серебр. Ист. морф. перм. яз.: 292), где он высказывает мнение по поводу возможной, хотя еще и не выясненной, связи данных пермских форм с формой 3 л. ед.ч. повел. накл. приведенных выше финно-угорских языков.
убедительно видеть в по- какой-то другой морфологический элемент или даже слово, расположенное между двукратным повтором ёлусь — ёлусь и только вторично — под влиянием сближения с грамматико-се-мантическими особенностями русского языка — воспринятое и истолкованное как близкая по звучанию русская глагольная приставка по-. Наиболее оправдано предполагать в элементе по- союз, расположенный между двумя словами (здесь — глаголами), или постпозитивную энклитическую частицу, связанную с первым из глаголов. В финно-угорских языках, например, хантыйском, действительно обнаруживается подтверждающее это предположение и не противоречащее общему возможному смыслу оборота слово. Это союз па «и, тоже, другой», напр.: асем па ацкем «мой отец и моя мать» ![]() «Наша школа большая и светлая», Л’ошек ики юх ил’пия
«Наша школа большая и светлая», Л’ошек ики юх ил’пия ![]() «Россомаха-ста-рик под дерево лег и заснул» [Русская: 80, 111, 190, 198, 231]. Таким образом, звуковой комплекс по- необходимо рассматривать как отдельное слово со значением «и». Следует заметить, что в данном случае, как и в хантыйском языке, речь идет, по-видимому, не о звукосочетании по, а о слове с формой па, где замена фонетического па орфографическим по была вызвана отождествлением рассматриваемого слова с префиксом по- и тем, что звук -а- в слове был воспринят как вызванный аканьем.
«Россомаха-ста-рик под дерево лег и заснул» [Русская: 80, 111, 190, 198, 231]. Таким образом, звуковой комплекс по- необходимо рассматривать как отдельное слово со значением «и». Следует заметить, что в данном случае, как и в хантыйском языке, речь идет, по-видимому, не о звукосочетании по, а о слове с формой па, где замена фонетического па орфографическим по была вызвана отождествлением рассматриваемого слова с префиксом по- и тем, что звук -а- в слове был воспринят как вызванный аканьем.
Таким образом, оборот в своей наиболее точной исходной форме должен иметь вид ёлусь па ёлусь и переводиться «пусть будет и пусть будет», букв. «пусть есть и пусть есть». Однако в таком виде он представляет собой явно эллиптизированную форму более полного приветственного выражения-пожелания, сокращение оборота в результате его частого употребления; полностью приветствие-пожелание произносилось только в наиболее важных случаях. Можно предполагать, что поскольку это пожелание, речь в нем должна идти о том, чтобы у того (тех), к кому оно относилось, всегда была пища (еда-питье, хлеб-соль или подобные синонимы). В начале формулы дважды повторялся глагол, указывая на постоянство обозначаемого им состояния,
так что становилось излишним употребление наречия со значением «всегда (постоянно, вечно)». Если учесть эти особенности, то формула пожелания могла иметь в передаче на русском языке следующий вид: «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя пища (еда-питье…)».
При всей фрагментарности данных о мерянском языке попытка гипотетической реконструкции отсутствующей части фразеологизма представляется все же возможной.
С чисто семантической точки зрения следует исходить из того, что в финноугорских языках чрезвычайно распространенным является парное сложное слово с буквальным значением «еда-питье», обозначающее пищу в целом. В ряде языков оно имеет идентичную в этимологическом отношении корневую часть обоих компонентов. В тех финно-угорских языках, где произошла частичная или полная замена компонентов парного слова, принцип семантического построения композита не изменен: имея в целом значение «пища; питание», иногда «пир», оно состоит из двух слов, обозначающих в отдельности «еду-питье». В тех финно-угорских языках, где не сохранились или не обнаруживаются существительные с подобным значением, выступают соответствующие парные слова-глаголы. Это дает основание считать, что и в них парное существительное «еда-питье», даже если теперь оно отсутствует, должно было употребляться в прошлом, об этом говорит, например, легкость образования в них отглагольных существительных, нередко частично совпадающих с формами инфинитива. Ср. соответствующие данные: коми сёян-юан «пища, продовольствие, довольствие», букв. «еда-питье», сёйны-юны «есть-пить, питаться, столоваться; пьянствовать, кутить; (нео-добр.) излишествовать»; удм. сион-юон «пища, еда, продукты питания», букв. «еда-питье», сиыны-юыны «угощаться (есть-пить)»; манс. тэнут-айнут ![]() «пища (еда-питье)»; венг. еszеm-iszom «обильное угощение, пир», букв. «еда-питье», еszik-iszik «откушает, потчуется», букв. «ест-пьет»; ф. syоda jouda «есть-пить»; карел. sууvаh juuvah «едят-пьют»; вод.
«пища (еда-питье)»; венг. еszеm-iszom «обильное угощение, пир», букв. «еда-питье», еszik-iszik «откушает, потчуется», букв. «ест-пьет»; ф. syоda jouda «есть-пить»; карел. sууvаh juuvah «едят-пьют»; вод. ![]() «ели-пили»; эст. suuа juuа «есть-пить»; морд. (эрзя) ярсамо-симема «пир, угощение»,
«ели-пили»; эст. suuа juuа «есть-пить»; морд. (эрзя) ярсамо-симема «пир, угощение», ![]() ** [sеуе(—) — ;;juye(—)]
** [sеуе(—) — ;;juye(—)]![]() , где ** указывают на вынужденную особую условность реконструкции, ⌊ [ ] ⌋ отделяют реконструированную форму от материально засвидетельствованных мерянских слов, а заключенные в круглые скобки два прочерка соответствуют возможным суффиксальной (в том числе и нулевой) и флективной частям слова. Квадратные скобки и заключенные в них слова указывают на явно временный характер предложенного финно-угорского (мерянского) решения данной лингвистической задачи. Впоследствии при обнаружении новых фактов или при более надежной реконструкции они могут быть полностью сняты и две звездочки (астериска) заменены одной, указывающей на большую вероятность предложенного решения.
, где ** указывают на вынужденную особую условность реконструкции, ⌊ [ ] ⌋ отделяют реконструированную форму от материально засвидетельствованных мерянских слов, а заключенные в круглые скобки два прочерка соответствуют возможным суффиксальной (в том числе и нулевой) и флективной частям слова. Квадратные скобки и заключенные в них слова указывают на явно временный характер предложенного финно-угорского (мерянского) решения данной лингвистической задачи. Впоследствии при обнаружении новых фактов или при более надежной реконструкции они могут быть полностью сняты и две звездочки (астериска) заменены одной, указывающей на большую вероятность предложенного решения.
Столь же (или почти столь же) условно может быть, к сожалению, реконструирован и другой неизвестный член фразеологизма, местоимение у тебя (у вас), которое в данном случае берется в первой из возможных форм — в форме единственного числа. При поисках конкретной падежной формы следует, по-видимому, искать наиболее вероятный вариант, сообразуясь с данными как финно-угорских языков, окружавших мерянский, так и русского языка, на который в какой-то степени могла влиять и система мерянского языка. Форма у тебя явно связана с понятием принадлежности, в том числе и в такой характерной для русского языка синтаксической конструкции, как у меня (у тебя, у него…) есть… Характерно, что для всех западно- и южнославянских языков в отличие от русского подобный оборот совершенно не характерен. Вместо него здесь засвидетельствована посессивная конструкция типа я имею… (ср. п. Мат ksiaZke «(Я) имею книгу»). Украинскому и белорусскому языкам хотя и не чужд оборот типа рус. у меня есть, однако он принадлежит к значительно менее употребительным, что особенно относится к западной части украинской и белорусской языковой территории. Вследствие этого, а также в связи с тем, что финно-угорским языкам, у которых, кроме обско-угорских, нет глагола со значением «иметь», а известен только глагол есть, также чрезвычайно свойственны обороты типа рус. у меня есть, можно предположить, что своей распространенностью эта конструкция в русском языке в значительной степени обязана финно-угорскому, в том числе и мерянскому влиянию.
Правда, в финно-угорских языках, хотя в них всюду выступает глагол есть, в данной конструкции далеко не одинаковы падежи, обозначающие лицо, которому принадлежит предмет. Так, в прибалтийско-финских языках здесь выступает адессив, который в данном случае переводится на русский язык предложной конструкцией у тебя (у меня…), однако с большей точностью должен был бы переводиться с предлогом на, ср. ф. Мinullа on kirjа «У меня есть книга», точнее «На мне есть книга». В венгерском языке тот же оборот требует дательного падежа владельца: Nекеm vап Konyvem букв. «Мне есть книга (моя)». Только в финно-угорских языках, находившихся в наиболее тесных контактах с русским языком и в то же время территориально наиболее связанных с мерянским, встречаем другой падеж, родительный, с окончанием -н, современным или историческим [Серебр. Ист. морф. перм. яз.: 185-186], представляющим собой, возможно, первоначальный локатив, отвечающий на вопрос «где?» и соответствующий конструкции с предлогом у [Бубрих: 12-14]. Следовательно, употребляемая, например, в мордовском-эрзя языке форма родительного падежа при обозначении принадлежности сохраняет свое прежнее локативное значение и совершенно точно переводится предложной конструкцией с предлогом у, ср. морд. (эрзя) Монь ули книгам «У меня есть книга (моя)»; Тонь ули книгат «У тебя есть книга (твоя)» и т.п. То же относится и к марийскому языку с его родительным падежом, имеющим формант -(ы)н, бывший показатель локатива, ср. мар. Полемын кок окнаже уло «Комната имеет два окна», букв. «У комнаты есть два окна (ее)». Поскольку мерянскому языку, видимо, также был свойствен родительный падеж (< бывший локатив) на -н, ср. (р.) Яхре-н (от яхре *jаhrа «озеро») «озера, озерная (< у озера)», Неро-н «название Галичского озера в галичском арго», букв. «болота», род. пад. от «болото», «болотное (у болота)», — озеро отличается заболоченными берегами, — а соседним с мерянским финно-угорским языкам (мордовским и марийскому) бывшие локативные
формы на -н с поссесивной функцией в высшей степени свойственны, — следует считать, что и в мерянском в качестве показателя принадлежности выступал родительный (бывший локативный) падеж с окончанием -н. Поскольку ни одна форма местоимения ты в мерянском языке не известна, форма его родительного падежа (< локатива) ед. числа на -н (-п) может быть реконструирована лишь гипотетично на основе финно-угорской праязыковой формы с добавлением окончания -n т.е. как **tenan4. Две звездочки в данном случае относятся не к прафинно-угорской реконструкции, где выступает одна звездочка, а к данной форме как отражению конкретного мерянского слова, так как она отражает ту финноугорскую праформу, которую еще предстоит конкретизировать, исходя из фонетико-морфологических особенностей мерянского языка. В конечном счете, переводя для единообразия все в латинскую графику, мерянс-кий фразеологизм на данной стадии реконструкции можно представить в следующем виде: Jolus ра jоluS [** (tenan sеyе (te) — juyе (tе))] «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя еда (твоя) — питье (твое)»5.
С формальной точки зрения в данном обороте глагольное образование jоlus, видимо, не является наиболее архаичной из известных форм. На то, что могла существовать и более древняя форма *jоloZе, сохранившая в несокращенном виде окончание 3 л. ед.ч. повел. накл., сокращение которого вызвало удлинение -о- с переходом в -у- (-u-), указывает существование фиксированных у В.Даля диалектных пермских выражений, явно связанных с рассматриваемым оборотом и сохранивших в нем -о- в соответствии с костромским -у- (-u-), ср. рус. (перм.) наелозиться «накушаться, насытиться». Благодарствуем, наелозились, — отвечают гости на приглашение: поелозить еще! [Даль II: 413]; перм. елозить «есть, хлебать, кушать (то есть елозить ложкою)».
4 Возможна также форма **tinan [ОФУЯ: 399].
5 Не исключено также, что предполагаемое парное слово *sеyе(—) — juye(—) имело притяжательный суффикс -ta, т.е. выступало в форме ** seye(—) te — juye(—) te «еда (твоя) — питье (твое); ср. венг. Neked van konyved «у тебя (букв. — тебе) есть книга (твоя)».
Елозьте, поелозьте, гости мои! [ООВС: 54] привет застольникам: елозь! [Слов. акад. елусь] «здорово хлебать!» сходится с пожеланием: *лось бы, желаю здорово поесть» [Даль I: 518].
Вне всякого сомнения, объяснение, предложенное В.Далем, — его сближение с «елозить ложкою, есть (елось)», — так же, как и упомянутые ниже сближения А.А.По-тебни и А.Преображенского, являются плодом народно-научной этимологии, и совершенно прав М.Фасмер, замечающий по этому поводу в своем словаре: «елозить, ёлзать «есть». (Приведенные здесь формы неправильны, так как у В.Даля, судя по его примерам, с этим значением связано лишь образование елозить — О.Т.). Совершенно ошибочно связывается Потебней [РФВ 1: 76] и Преображенским [1: 464] с ложка. Ср. «ёлзать II» [Фасмер ЭСРЯ II: 17] и далее: «ёлзать II, елозить «хлебать, черпать ложкой, есть». Темное слово. По мнению Потеб-ни [ФЗ 1876, вып. 2: 97], заимств. из тюрк. (без указания источника). Ср. елозить, елосить» [там же: 15].
Возникает вопрос о происхождении пермского слова и выражения (ср. Елозьте, поелозьте, по-видимому, представляющее собой отражение исходного Елозь, поелозь < *JоlоZð ра joloZð), аналогичного костромскому. Поскольку убедительного объяснения ему на основе славянских элементов русского диалектного языка найдено быть не может, а мерянскими (финно-угорскими) фактами оно объясняется вполне логично, и поскольку пермское выражение почти полностью совпадает с костромским, единственно вероятным объяснением может быть следующее. Пермское выражение представляет собой результат переселения носителей части костромских говоров, которое шло в восточном направлении через Вятскую землю на Урал. Так как переселение происходило в тот момент, когда ме-рянский язык находился на более древней ступени развития, переселенцы унесли с собой на восток более архаичную форму рассматриваемого фразеологизма. Там вследствие русификации этой части населения — возможно, первоначально носителей мерянского языка — она как бы инкрустировалась в русском языке, застыла в
своем развитии, что и вызвало в ней сохранение -о- даже в условиях нового закрытого слога (ср. елозь(те), хотя в мерянском в этих условиях -о-, как правило, переходило в -у-).
Другой интересной формой, отражающей отчасти аналогичное новообразование, является форма того же слова юлысь, представленная в уже приводимом выше кинешемском слове наюлызиться. Начальное -освоим образованием, видимо, обязано части форм глагола быть в мерянском языке (напр., *ульша «бывший»), которая имела начальное у-; сближение их с формами на й- (*ёлусь, *ёлозе и т.п.) должно было привести к распространению начального й- и на них. Вследствие стремления к еще большему единообразию в части мерянских говоров во всех формах глагола быть распространилось начальное ю-. Что касается перехода -з- в интервокальной позиции (-с(ь) в конечной), то она также не противоречит фонетике мерянского языка, насколько ее можно прослеживать в местном русском языке на словах как русского, так и мерянского происхождения (ср., например, среди первых сабог вместо сапог (яросл.), кадюка вместо гадюка (там же) и обычное для русского литературного языка оглушение в конечной позиции звонких согласных).
Особый интерес представляет также вопрос об ударении в глагольных формах рассматриваемого фразеологизма. Несмотря на то что во всех известных формах — елусь, елозьте, (на)елозиться, (на)юлызиться
— ударение падает на второй слог от начала корня, есть основание усомниться в его первичности, поскольку, судя по географическим названиям бывшей мерянской территории, в мерянском языке абсолютно преобладало, если не было единственно возможным, инициальное, начальное ударение (ср. Яхрома, Чухлома, (диал.) Кострома, Неро, Кинешма, Костома и т.д.). По-видимому, и в данном фразеологизме первоначально ударение падало на первый слог слова. Только впоследствии, в связи с ассимиляцией мери, когда сохранившиеся слова и обороты стали видоизменяться под влиянием фонетико-грамматической и семантической систем русского языка, и в данном обороте произошло передвижение ударения. Видимо, это было связано с тем, что сдвинутым к концу слова было наиболее естественное ударение в форме 2 л. ед.ч. (и мн.ч.) повел. накл., в качестве каковой стала восприниматься форма елусь или елозь. В случае формы елозь могла действовать и аналогия со стороны русского глагола елозить. Следовательно, первоначально и в глагольных формах ёлусь (*ёлоз(е), *юлысь), как и во всех других словах оборота, должно было употребляться начальное (инициальное) ударение6.
Рассматриваемый оборот, помимо того интереса, который он представлял с сугубо лингвистической точки зрения как отражение мерянской фразеологии и языка в целом, чрезвычайно интересен и как отражение древнего мировоззрения, не чуждого, судя по близким финно-угорским и славянским оборотам, остальным финно-уграм и славянам в наиболее древний период их истории.
Если современный языковой этикет, выработавшийся у европейских народов, стал предписывать желать едящим людям приятного аппетита, — обычай, несомненно, связанный с господствующими и преуспевающими слоями общества, которых больше заботил их аппетит, чем проблема добывания еды, — то человеку древнего периода прежде всего важно было иметь вдосталь еды, не испытывать голода. Поэтому самым важным для него было пожелание постоянного достаточного запаса пищи, в связи с чем вполне естественным было обращение с пожеланием, как у мерян, «Пусть будет и будет (т.е. не выводится) у тебя еда-питье!».
Вполне соответствует этому пожеланию и эстонское аналогичное: Jatku lеibа! букв. «В достаче (вам) хлеба!», на которое следует ответ: Jatku tarvis «Достача нужна».
Очевидно, подобный характер имеет и русское пожелание Хлеб-соль!, возникшее, вероятно, в результате сокращения из более полного «Пусть будет (или: Да будет) (у вас всегда) хлеб-соль!»
В связи с этим наелузиться (наело-зиться, наюлызиться) приобрело значение «наесться (вследствие того, что осуществилось пожелание и стол ломился от еды)». Не исключено, что глагольная форма елусь (или ее варианты) могла еще в мерянском языке повести к образованию глагола jоluZims7 «ёлузить (произносить пожелание Елусь па ёлусь)», т.е. желать изобилия еды и питья, большого количества пищи, вследствие чего так естественно образовался соответствующий русский диалектный глагол.
6 Как свидетельствуют данные финноугорских языков (напр., эстонского и финского), где при инициальном ударении возможны случаи его смещения [Aristе: 39-43], сдвиг ударения мог произойти также еще в мерянском языке.
Другой мерянский фразеологический оборот, предполагаемый возможный зачин мерянской сказки, можно восстановить на основании отразившего его русского сказочного зачина Жил-был… и параллельных явлений ряда финно-угорских языков (ср. кар. Еllеttih-oldih ukko dа akku «жили-были муж и жена», коми Олiсны-вылisны кык вок «Жили-были два брата», удм. Улэм-вылэм одйг эксей «Жил-был (оказывается) один царь» и под.) [Ткаченко СИФСФУЯ: 216-235].
Если при восстановлении оборота *Jolus ра jоluS ⌊* (tenan зеyе (tе) — juyе (te))] ⌋ недостающую его часть приходится временно приводить к «немерянизированной» гипотетической общефинно-угорской праязыковой форме, то в тех случаях, когда новый материал позволяет конкретизировать подобные общие формулы реконструкции, появляется возможность дать их в большем приближении к конкретно доказуемым фактам мерянского языка. Так, восстановленную в прошлом в наиболее гипотетичном виде формулу сказочного зачина мерянской сказки ⌊** [Eli-woli] ⌋ urma «Жила-была белка» [Ткаченко СИФСФУЯ: 228] в связи с более точными знаниями формы глагольной парадигмы мерянского языка и особенностей его фонетики появилась возможность представить в менее гипотетическом и не обобщенно финно-угорском, а мерянском виде, хотя и реконструированном.
7 Форма инфинитива на -s (по происхождению иллативная) для мерянского языка, как и для мордовских, наиболее правдоподобна в связи с тем, что здесь номинативная форма (с суффиксом *-та и нулевой флексией) употребляется широко в функции отглагольных существительных, в частности в местных названиях.
Так, исходя из того, что в 3 л. ед.ч. наст. вр. глагол быть имеет смягченное конечное -n вместо обычно твердого других финно-угорских языков (ср. рус. (диал. < мер.) сиень «есть» (Si jon «это есть»), ф., эст. sе(е) on «(это) есть» и венг. van «есть»), можно предположить, что это смягчение возникло под влиянием формы глаголов 3 л. ед.ч. прош. вр., где в результате отпадения конечного -i (-и) произошло смягчение предшествующего согласного. Вместо форм, подобных ф. eli «жил (-а)», oli «был(-а)», в мерянском языке произошла первоначально их замена формами типа *еl’ и *оl’. Однако в связи с тем, что в новых закрытых слогах е (э) переходило в i (и), а о в u (у), ср. *ul’sa «бывший» при jolus’ «пусть будет (есть)» или (р.) Ильдомка8 «без жизни, безжизненная» при (названии деревни) Элино (бывш. Кологривского уезда Костромской губернии) от *Эля «живой», для ме-рянского языка сказочный оборот следует принять в следующей форме: [*il’ — ul’] urma «Жила-была белка», где часть, заключенная в скобки и снабженная звездочкой, обозначает фрагмент сказочного зачина, устанавливаемый путем реконструкции, а слово urma, расположенное вне скобок, связано с конкретным диалектным русским словом, восходящим непосредственно к поздненовомерян-ской лексеме9.
Менее ясен ввиду своего, видимо, стяженного, синкопированного характера третий предполагаемый мерянский фразеологизм, приветственная форма ![]()
![]() , реконструируемая из рус. (диал.) Цолонда! («Цолонда — в доме: здравствуй, хозяин (?)», — Яр. губ. — Пош (с. Давшино, 1849 г.) [КЯОС: 212]). Здесь можно предполагать сохраненными два слившихся слова — субстратное индоевропейское (фатьяновское, возможно, протославянское) включение в мерянский
, реконструируемая из рус. (диал.) Цолонда! («Цолонда — в доме: здравствуй, хозяин (?)», — Яр. губ. — Пош (с. Давшино, 1849 г.) [КЯОС: 212]). Здесь можно предполагать сохраненными два слившихся слова — субстратное индоевропейское (фатьяновское, возможно, протославянское) включение в мерянский ![]() «здоровый; (?) здоровье» (и-е. коlо-/-lu-, отраженное в пcл. *cеlъ «целый, невредимый, здоровый», полаб. соl! «за (твое/ваше) здоровье; (будь) здоров!», гот. hails «здоровый» (hails! «(будь) здоров!»), прус. kаils «здоровый» kails! «(будь) здоров!») [ЭССЯ III: 179-180; SEJDrzP I: 86; Кlugе-Mitzkа: 298; Топоров (I-К): 136-142) и мерянское финно-угорское аnD- «давать» в одной из возможных в данном случае форм. Общий смысл оборота ввиду его синкопированного характера, что характерно для приветственных формул в целом, и вызванной этим затемненности грамматического оформления второго из слов можно пока определить только приблизительно. Наиболее оправданным, поскольку речь идет о приветствии, обращенном к хозяину в его доме со стороны гостя, является истолкование формулы как первоначального (затем эллиптизированного) предложения
«здоровый; (?) здоровье» (и-е. коlо-/-lu-, отраженное в пcл. *cеlъ «целый, невредимый, здоровый», полаб. соl! «за (твое/ваше) здоровье; (будь) здоров!», гот. hails «здоровый» (hails! «(будь) здоров!»), прус. kаils «здоровый» kails! «(будь) здоров!») [ЭССЯ III: 179-180; SEJDrzP I: 86; Кlugе-Mitzkа: 298; Топоров (I-К): 136-142) и мерянское финно-угорское аnD- «давать» в одной из возможных в данном случае форм. Общий смысл оборота ввиду его синкопированного характера, что характерно для приветственных формул в целом, и вызванной этим затемненности грамматического оформления второго из слов можно пока определить только приблизительно. Наиболее оправданным, поскольку речь идет о приветствии, обращенном к хозяину в его доме со стороны гостя, является истолкование формулы как первоначального (затем эллиптизированного) предложения ![]() «Здоров (здоров будь), кормилец (букв. кормящий)!». Однако в принципе возможно также истолкование формулы как мольбы-пожелания: «Здоровье пусть даст (тебе, бог)! (дай) ему, боже!» Подобная интерпретация представляется менее вероятной. Хотя при заимствовании первоначального прилагательного *
«Здоров (здоров будь), кормилец (букв. кормящий)!». Однако в принципе возможно также истолкование формулы как мольбы-пожелания: «Здоровье пусть даст (тебе, бог)! (дай) ему, боже!» Подобная интерпретация представляется менее вероятной. Хотя при заимствовании первоначального прилагательного *![]() в заимствуемом языке оно могло приобрести также значение существительного, все же, поскольку речь идет, по-видимому, о длительных контактах двух языков, сопровождаемых двуязычием ассимилируемых индоевропейцев и частично мери, подобная трансформация, особенно во фразеологизме, менее вероятна, чем сохранение слова в значении прилагательного. Та мольба-пожелание, которая должна была бы реконструироваться в случае предполагаемого второго варианта ее истолкования, более естественна в качестве формулы изъявления благодарности, чем формулы приветствия. Кроме того, ее употребление и возникновение кажется более связанным с периодом после введения христианства, чем с языческой эпохой, во время которой она должна была возникнуть. Мерянское (постиндоевропейское) прилагательное *
в заимствуемом языке оно могло приобрести также значение существительного, все же, поскольку речь идет, по-видимому, о длительных контактах двух языков, сопровождаемых двуязычием ассимилируемых индоевропейцев и частично мери, подобная трансформация, особенно во фразеологизме, менее вероятна, чем сохранение слова в значении прилагательного. Та мольба-пожелание, которая должна была бы реконструироваться в случае предполагаемого второго варианта ее истолкования, более естественна в качестве формулы изъявления благодарности, чем формулы приветствия. Кроме того, ее употребление и возникновение кажется более связанным с периодом после введения христианства, чем с языческой эпохой, во время которой она должна была возникнуть. Мерянское (постиндоевропейское) прилагательное *![]() может отражать развитие протославянского слова *kolu /(-ъ) «здоровый, целый», однако в той его стадии, которая, по-видимому, была отделена значительным промежутком времени даже от позднепраславян-ского периода, тем более от выделения восточнославянских диалектов, отделенного также несколькими веками от принятия христианства восточными славянами. Следовательно, менее вероятно связывать возникновение рассматриваемого оборота, возникшего в первых веках нашей эры или на рубеже двух эр, с принятием и распространением христианства, проникшего в ВолгоОкское междуречье только после I тыс.
может отражать развитие протославянского слова *kolu /(-ъ) «здоровый, целый», однако в той его стадии, которая, по-видимому, была отделена значительным промежутком времени даже от позднепраславян-ского периода, тем более от выделения восточнославянских диалектов, отделенного также несколькими веками от принятия христианства восточными славянами. Следовательно, менее вероятно связывать возникновение рассматриваемого оборота, возникшего в первых веках нашей эры или на рубеже двух эр, с принятием и распространением христианства, проникшего в ВолгоОкское междуречье только после I тыс.
нашей эры. При всей обоснованности приведенных аргументов, имеющихся в настоящее время данных, недостаточно для того, чтобы решить однозначно вопрос о первоначальном значении рассмотренного фразеологического оборота.
8 От *il’Dоmа «безжизненный, неживой, нежилой» абессивной формы прилагательного от е1’а «живой» (ср. морд. (эрзя) вал-томо «без слова», мар. илы-дыме» «нежилой») [ОФУЯ т. 1, с. 233].
9 Более подробно о данном мерянском фразеологизме см. наст. изд., стр. 217-219.
ВЫВОДЫ
Анализ и проведенная на конкретных примерах реконструкция мерянских фразеологизмов говорит о перспективности дальнейшей работы по реконструкции мерянского языка, и в частности о возможности, по крайней мере частичного, восстановления мерянской фразеологии. Тем самым будут проясняться не только темные места финно-угристики, но и целый ряд неясных слов и выражений русского, в особенности диалектного, языка.
Из трех рассмотренных предполагаемых фразеологизмов мерянского языка только третий не поддается пока точному истолкованию, два же других восстанавливаются и объясняются достаточно убедительно. Сказочный зачин [*il’ — ul’] urma «Жила-была белка» имеет широкие финно-угорские связи, восходя, по-видимому, к прафинно-угорскому периоду [Ткаченко СИФСФУЯ: 220]. Два других фразеологических оборота, напротив, не имеют соответствий в других известных науке финно-угорских языках. Поскольку все они относятся к числу так называемых языковых формул, наиболее стойких из фразеологизмов и наименее подвергнутых иноязычным влияниям, это свидетельствует об особом месте мерянского среди финно-угорских языков, о его относительно большой изолированности от них, позволившей ему даже в области языковых формул развить ряд оригинальных оборотов. Подобное положение можно рассматривать как серьезный аргумент в пользу того, что мерянский не входил ни в одну из известных групп финноугорских языков, образуя среди них отдельную группу (подобно, например, венгерскому, который также представляет собой отдельную группу в угорской ветви финно-угорских языков, состоящую из одного языка).
На основании трех, к тому же далеко не полностью объясненных, фразеологиз-
мов еще рано говорить об особенностях мерянской фразеологии в целом. Однако на основании сделанного для их реконструкции уже теперь можно высказать предположение об основном направлении в работе по воссозданию мерянской фразеологии.
Поскольку даже в случае обнаружения связных мерянских текстов речь может идти главным образом о евангельских, т.е. переводных текстах, интересных преимущественно с фонетической, грамматической и лексической, но никак не с фразеологической точки зрения, думается, что роль их в реконструкции мерянской фразеологии может быть не главной, а лишь вспомогательной. Основная масса восстановимой мерянской фразеологии скорее всего сохранена в русских (постмерянских) говорах на бывшей мерянской территории в калькированном, «переведенном» на русский язык виде. Выделить их из собственно славянской по происхождению русской фразеологии могли бы только тщательные сопоставительно-типологические и ареальные исследования, которые помогли бы отсеять все явно финно-угорское (мерянское) по внутренней форме и происхождению. С помощью имеющихся сведений по ме-рянской фонетике, грамматике и лексике можно было бы осуществить «обратный перевод» данных фразеологизмов с русского на мерянский, тем самым реконструировав их как семантически, так и формально.
В настоящее время можно говорить только о начале подобной работы, первые образцы которой представлены здесь и в предшествующей книге автора [см. часть 2 наст. изд. — Прим. ред.], посвященной специально принципам исследования и реконструкции древнейшего слоя фразеологизмов, главным образом субстратного происхождения.
СПИСОК СОБСТВЕННЫХ СОКРАЩЕНИЙ К ГЛАВЕ «ФРАЗЕОЛОГИЯ»
Бубрих — Бубрих Д.В. Историческая морфология финского языка. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — 186 с.
КРусСл — Коми-русский словарь. М.: ГИС. 1961. — 923 с.
Русская — Русская Ю.Н. Самоучитель хантыйского языка. — Л.: Гос. уч.-пед. изд-во мин. просв. РСФСР / Лениг-рад. отд-ние, 1961. — 256 с.
РФВ — Русский филологический вестник, 1879—1917 гг.
Ткаченко СИФСФУЯ — Ткаченко О.Б. По следам исчезнувших языков. (Сопоставительно-историческая (историко-типологическая) фразеология славянских и финноугорских языков). — Ньиредь-хаза, Studium. 2002. — 299 с.
УдмРусСл. — Удмуртско-русский словарь. — М.: ГИС, 1948. — 447 с.
Фасмер ЭСРЯ — Фасмер М. Этимологический словарь
русского языка. Перев. с нем. и дополнения О.Н.Тру-бачева, т. 1-4. — М.: Прогресс, 1964-1973.
ФЗ — Филологические записки, 1882-1917 гг.
Ariste — Ariste P. Einige Bemerkungen uber die dynamische Betonung der Worter im estnischen Satz.
— In: Etudes finno-ougriennes. — T. XV. — Budapest — Paris: Akad. kiado
— Librairie Klincksiek, 1982. — S. 39-43.
MOSz — Hadrovics L., Galdi L. Magyar-orosz szotar. — K. 1-2. — Budapest: Akad. kiado, 1972. — 1474
1.; 1243 1.
Pulkkinen — Pulkki-nen P. Asyndeettinen rinnastus suomen kielessa.— Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966. — 343 s.
SKES II — Toivonen Y.H., Itkonen E., Joki A.J. Suomen kielen etymolo-ginen sanakirja. — II. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1979. —
S. 205-480.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системная реконструкция и всестороннее изучение доступных ныне фактов мерянского языка, извлеченных из русского языкового материала мерянского происхождения, позволяют на основе обобщения полученных результатов подвести итоги проведенной работы и наметить пути ее продолжения.
Апробированный в предыдущем исследовании автора [101] на фразеологическом материале особый (сопоставительноисторический) метод, применимый для реконструкции субстратных языков, проявил себя в данной работе как вполне действенный при реконструкции и изучении мерянского языка на всех его уровнях — фонетическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом.
С помощью воссозданных данных мерян-ского языка постепенно начинают проясняться основные моменты его происхождения и истории. Своими корнями мерянский, как и другие финно-угорские языки, уходит вглубь уральского и финно-угорского праязыковых периодов, что особенно ярко отражено в его лексике и фонетике и менее заметно (из-за фрагментарности сведений) — в чертах грамматического строя. Наиболее тесным родством среди финно-угорских мерянский язык связан с финскими языками, прежде всего прибалтийско-финскими и мордовскими и в меньшей степени — с марийским. Об этом свидетельствуют освещенные в данной работе факты его фонетики, грамматики и лексики. Специфика мерянского языка определялась в значительной стопени своеобразным развитием и сочетанием исконных элементов, унаследованных им из разных периодов его формирования (уральского — финно-угорского — финно-пермского — финского) и пред-шествовавшях его выделению в качестве особого финно-угорского языка. В то же время
заметный вклад сюда внесли контакты ме-рянского с другими родственными и неродственными языками. Наиболее примечательными из них были связи (прото)мерянского с угорскими языками или их предками, прото-угорскими диалектами финно-угорского праязыка, до переселения (прото)мерян на запад, и контакты, в которые они вступили в Волго-Оскском междуречье с носителями индоевропейских диалектов (в ряде случаев явно протославянского типа). Черты угорского влияния прослеживаются в мерянском на разных уровнях — фонетическом (развитая палатальность), грамматическом (общий с венгерским формант множественного числа -k), лексическом (важные, в том числе служебные, слова), что свидетельствует о его былой интенсивности и глубине. У индоев-ропейцев-фатьяновцев с их близким к про-тославянскому идиомом, вошедшим частью элементов в мерянский как его субстрат, меря-не заимствовали лексику, связанную с новыми для них видами хозяйственной деятельности (оседлое скотоводство). От них же были усвоены слова и фразеология, относящиеся к духовной жизни, обычаям (например, связанные с традиционными приветствиями-пожеланиями). Ценность этих элементов мерянского словаря заключается в том, что здесь мерянский, как и другие финно-угорские языки того же ареала, сохранил, возможно, те наиболее ранние формы прасла-вянского языка, которые давно утрачены и нигде не сохранены самими славянскими языками, преобразовавшими их в ходе своей эволюции. Поскольку период контактов мери с фатьяновцами продолжался (примерно с I тыс. до н.э. до рубежа н.э.), закончившись окончательной финно-угризацией последних, следует считаться с возможностью отражения разных стадий развития этого индоевропейского языка. Большая или меньшая близость его к (прото)славянскому типу может быть связана также с его диалектной дифференциацией. Признавая вполне вероятным предположение В.Т.Коломиец о возможной ассимиляции славянами части финно-угров, продвинувшихся западнее мери, и о воздействии финно-угорского субстрата на праславянс-кий язык [43, с. 79-81], можно, исходя из мерянского материала, дополнить его мыслью об установившейся постепенно между территорией с преобладанием славян и территорией с преобладанием финно-угров славянско-финно-угорской границе. К западу от нее, там, где праславяне оказались в большинстве, произошла постепенная ассимиляция финно-угров славянами, к востоку, где численно преобладал финно-угорский (мерянский) этноязыковой элемент, произошла ассимиляция индоевропейцев (в том числе возможных протославян) финно-уграми. В результате указанных ассимиляционных процессов, с одной стороны, праславянский мог включить в себя отдельные элементы древней финно-угорской лексики, в частности связанной с характерным для финно-угров рыболовством [43, с. 80-81; 44, с. 118-127], и испытать воздействие финно-угорского субстрата на иных уровнях, с другой стороны, мерянский включил в себя часть древних субстратных протославянских лексических элементов и испытал влияния, которые еще предстоит изучить. Так, не исключено, что одним из их последствий было отсутствие в мерянском сингармонизма, начавшего в нем развиваться, как и в других финно-угорских языках, но приостановленного под воздействием индоевропейского (протославянс-кого) языка.
Итак, в финно-угорский или близкий к нему период (прото)мерянский язык характеризовался контактами с (прото-) или (пра)-угорским. Для начала древнемерянского периода как части истории собственно ме-рянского языка особенно характерны контакты мерянского с индоевропейским языком фатьявовцев, в ходе которых последний постепенно растворился в своих пережиточных субстратных элементах в мерянс-ком. Древнемерянский период не оставил почти никаких следов, так как в это время отсутствуют какие-либо записи мерянского языка со стороны как самих мерян, так и
их соседей, если не считать нескольких отражений этнонима «меря». Последний период развития мерянского языка, собственно исторический, так как именно в это время начинают фиксироваться его слова и названия и, очевидно, осуществляются попытки создания мерянской письмености с миссионерской целью, относится к X-XVIII вв. н.э. В это время меря вступает в контакты с носителями прото(велико)русских говоров древнерусского языка (в дальнейшем ставшими частью отдельного восточнославянского русского языка). В ходе их как результат перевеса славян меря все более славизируется, переходя полностью на славяно-русский язык. Конечным следствием этого контакта становится, таким образом, превращение мерянского языка в субстрат русского. Однако длительность процесса постепенной славизации мери, закончившейся полным вытеснением мерянского языка, привела к тому, что он, исчезая, оказал определенное влияние на местный русский язык и оставил в нем и письменных фиксациях многочисленные следы своего былого существования. По этим следам теперь предстоит воссоздать историю мерянского языка, дать его всестороннее и возможно более полное описание, построенное на исчерпывающем этимологическом анализе всех его лексических и грамматических элементов, выяснить картину его развития и постепенного угасания в связи с трансформацией сохранившихся мерянских элементов в диалектные русские.
Эту крайне сложную и трудоемкую работу необходимо проделать, имея в виду следующую ее пользу и значение.
1. История Центральной России, являвшейся средоточием формирования русской государственности, русского литературного языка и русской культуры в целом, до сих пор известна главным образом только с X-XI вв., то есть с появления в ней восточных славян. С изучением мерянского языка и связанным с ним комплексом работ в области мерянских древностей (истории, археологии, антропологии, этнографии, фольклористики) становится возможным заглянуть в историю этого важного региона на 1-2 тыс. лет раньше. Отечественная наука не может упустить такую возможность.
2. Любой язык несет в себе заряд огромной информации, приобщая нас к жизни давно ушедших предков, и в этом смысле бесследное исчезновение любого языка
— невосполнимая утрата. Без знания ме-рянского языка остаются неясными происхождение и первоначальное значение целого ряда русских диалектных слов Московской, Калининской [с 1991 г. — Тверской. — Прим. ред.] , Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской и др. обл., откуда шло переселение в другие районы России, вплоть до Урала и Сибири. Без знания этого языка молчит для нас также «язык земли», карта Центральной России, полная десятков и сотен названий, по-видимому, мерянского происхождения (таких, как Москва, Яхрома, Кострома, Кинешма, Шолешка, Шекшема, Покша и многих других, больших и малых мест, которые с детских лет близки и дороги миллионам русских людей, но понять которые они пока не могут). Расшифровать этот умолкнувший язык, сделать его возможно более понятным для нас — задача трудная, но интересная и благородная.
3. Мерянский язык образует собой звено, некогда связывавшее ряд финноугорских языков, прежде всего прибалтийско-финские, мордовские и марийский. В нем обнаруживаются загадочные следы древних контактов с угорскими языками, в частности венгерским. Большинство народов, говорящих на этих языках, живет в пределах Российской Федерации, с тремя самыми большими из них — венграми, финнами и эстонцами (в основном в Венгрии, Финляндии и Эстонии, но частично также в Российской Федерации и Украине) — народы России связывают добрососедские отношения. Реконструкция мерянского языка позволяет глубже изучить историю этих народов и языков в их многообразных связях. Для исследования мерянского языка необходимы и финно-угроведение и славистика. Следовательно, его воссоздание и изучение — это не только вклад в мировую финно-угристику, но и в укрепление дружественных связей народов России с народами Венгрии, Финляндии и Эстонии, а вместе с тем и всех стран, где интересуются проблемами финно-угроведения, число же их все время растет.
4. Изучение мерянского языка, в своих остатках полностью растворившегося в русском, чрезвычайно важно для русистики в ее разнообразных проявлениях, прежде всего для истории русского языка и русской диалектологии. Для науки о русском языке необходимо установить, какое влияние мог оказать мерянский субстрат на русский диалектный и литературный язык, в чем он мог определить их своеобразие. Эти вопросы еще никем серьезно и глубоко не изучались, хотя отдельных разрозненных попыток было довольно много. Лингвистическая меря-нистика, черпая свои данные из русского (главным образом, диалектного) языка и русской ономастики должна способствовать решению этих проблем. И в этом ее несомненное научное значение.
5. С двух точек зрения необходимо исследование мерянского языка и для славистики — ввиду сохранения им в своих остатках возможных следов древнего протославянского языка фатьяновцев и в связи с тем, что изучение субстратного влияния мерянского языка на русский, обнаруживая один из источников специфики русского языка на фоне славянских, тем самым важно и для общей славистики.
6. Наконец, немалые услуги изучение мерянского языка как субстратного может оказать общему языкознанию, где большую роль для понимания особенностей языковых контактов и закономерностей развития языка, в частности причин распада праязыка на родственные языки, призвана сыграть разработка теории субстрата. Опыт реконструкции мерянского языка в его внутренней и внешней истории не может не обогатить общее языкознание.
Таково значение исследования и реконструкции мерянского языка, вполне оправдывающее те усилия, которые делались и будут сделаны в этом направлении. Усилия эти, безусловно, должны быть значительно интенсифицированы в связи с тем, что остатки мерянс-кого языка, которых в русских диалектах становится все меньше и меньше, еще стремительнее должны исчезать ввиду усилившихся миграций населения Центральной России и стирания местных диалектных особенностей. То же относится к возможным записям мерянских текстов и слов, сохраненных в имеющихся, и возможно, еще не открытых памятниках, также, к сожалению, не вечных.
В связи с необходимостью реконструкции и исследования мерянского языка перед наукой стоят следующие неотложные задачи:
1) фиксация всех данных современной ономастики и апеллятивов мерянс-кого происхождения, содержащихся в русских локо- и социолектах, прежде всего Центральной России, требующая, помимо целенаправленных усилий, исчерпывающей записи русской диалектной лексики и ономастики центральнорусских областей;
2) учет всех диалектных и ономастических записей слов мерянского про-
исхождения как в публикациях и рукописных списках (XIX и XX вв.), так и в записях русских, а возможно, и иностранных памятников предыдущих веков;
3) поиски сохранившихся памятников мерянского языка (связных текстов, глосс и глоссариев, берестяных грамот, граффити);
4) сбор исторических свидетельств, содержащих сведения о внешней истории мерянского языка и истории его носителей, важных для воссоздания наиболее полной картины существования ме-рянского языка.
Таковы те большие и сложные задачи, которые стоят перед исследователями ме-рянского языка. В настоящей книге, намечающей путь к их решению, можно было затронуть только небольшую их часть.
ТЕКСТЫ
Примечание. Ввиду отсутствия обнаруженных связных мерянских текстов их заменяют примеры разрозненных, частично реконструированных минимальных текстов-предложений.
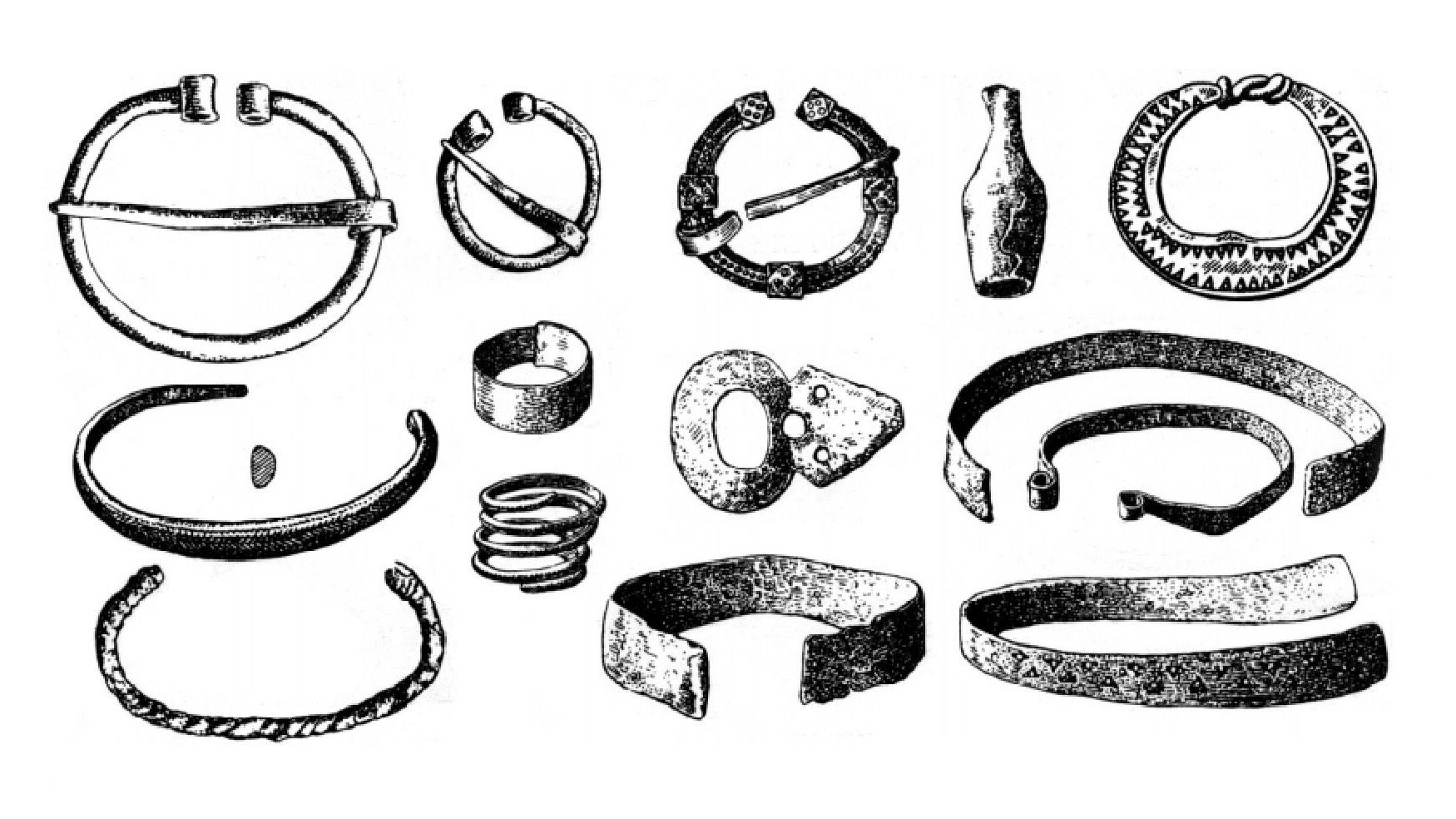
⌊ *** ⌋