Александр Бугров
2017/06/24

Стихи Юрия Бекишева по-настоящему ещё не прочитаны (да и изданы далеко не в полной мере; так, на первой книге поэта «Соседние миры», вышедшей в Ярославле в 1990 году, лежат следы небольшой, но явной правки редактора – О. Николаева). Давно бы пора издать хотя бы «Избранное» Юрия Бекишева в достаточном объёме. Пока же у поэта вышли три небольших книги.
Блок сказал, что главное для поэта – чувство пути. По трём книгам Юрия Бекишева можно увидеть, что путь, пройденный им, — путь долгий и противоречивый. Это – путь в глубину. В первой книге «привычные размеры, обычные слова», но в них нельзя не ощутить тайны и чуда, которые рождаются как будто сами собой (это, конечно, иллюзия; след работы мастера незаметен). Во второй книге появляются «тёмные», кажущиеся герметичными стихи, а в третьей книге на смену силлабо-тонике приходят стихи, написанные «с голоса» — прихотливые, таящие неожиданные повороты стиха и мысли в каждой новой строчке. Если проводить с кем-то параллели, то наверное, с Мандельштамом. Мандельштам тоже шёл от призрачной ясности «Камня» к метафизике «Воронежских стихов».
Одно из лучших стихотворений Юрия Бекишева называется «Миг цветения»:
В тесноте да в темноте,
где и день погожий – чудо,
что сказать о красоте,
ждать её когда, откуда?
Но в саду белым-бело,
ослепительно для глазу.
Никогда так не цвело,
не бывало так ни разу!
Шторку сдвинули с окна,
глянули – и обомлели:
«Ах ты, господи, она!
чуть бы позже – проглядели…»
Красота приходит (так и хочется сказать – настигает) в «окаянном захолустье» и на один миг. Вот только знать бы, когда «шторку сдвигать» надо, чтобы с красотой встретиться… Хотя, наверно, важна сама возможность встречи.

Фото А. Сыромятникова
О стихах Бекишева не одну книгу литературоведческую написать можно (материала неисследованного более чем достаточно). Не знаешь, на чём бы в коротком предисловии остановиться… Ну хотя бы на оппозиции «сад – парк». Принято говорить о «садово-парковой культуре» как о чём-то однородном. В лирике же Юрия Бекишева сад и парк структурно не столько сопоставляются, сколько противопоставляются.
Парк – проект цивилизации, социума. Он предназначен для общих нужд:
Отдых в парке – вот награда
за великие труды…
И ещё более определённо в этом же стихотворении:
В общем, каждому дано.
А сад – индивидуальный проект, образ единственного, уникального:
В невиданном живя саду,
среди таинственных растений,
однажды,
на восьмом году,
отбросить напрочь сны и тени…
Так начинается волшба…
Человек в саду волен поступать по-своему:
С красотищей невозможной
обращался он безбожно…
Но хозяином и в своём саду человек ощутить себя не может:
Человек, подобно вору,
крался в сад в ночную пору,
и тамбовская тоска
билась жилкой у виска.
И дальше:
Человек стоял один
супротив красы могучей.
(Стихотворение так и называется – «В саду».)
Красота – не объект восхищения, а – вызов (любому человеку, а уж поэту – тем более). Каким же должен быть ответ на вызов «красоты могучей»? Достойный ответ – самостоянье, попытка стать выше себя:
Но ещё не вечер! День как день.
Да прибудет пусть – не убывает!
И уже совсем не удивляет
то, что за моей спиною тень
множество пространств пересекает.
Я затронул лишь один из аспектов изучения поэзии Юрия Бекишева. Впрочем, исследовать аспекты, конечно, интересно, но куда интересней просто читать настоящие стихи:
Ещё по молодости лет
прощала молодость ошибки.
В траве он отыскал свой след –
след эльфа с очертаньем скрипки.
А кто свой волшебный след отыскать сможет? Только чистая душа поэта.
«…Не отвести от сущего очес!»
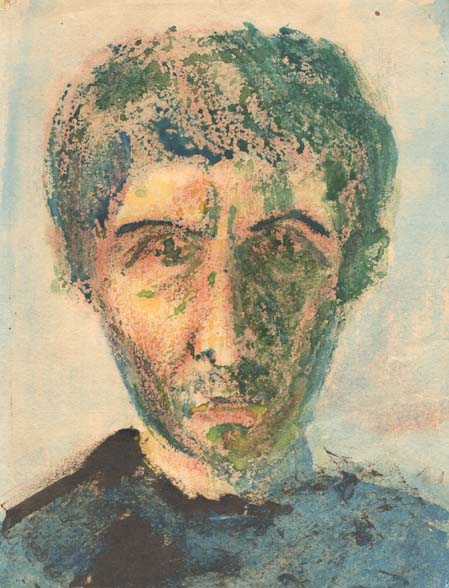
* * *
Если слово поменять на слово,
тихое на звонкое, как медь,
разве не захочется мне снова
то, простое, лёгкое, иметь?
Это вряд ли жадность или зависть —
жизнь моя не так уже проста…
Плод созрел, но молодая завязь
памятью все будет прорастать.
В этой кружевной беседке летней,
полной света, щебета синиц,
сколько прочитали мы страниц
в книге с тьмою действующих лиц,
где чем речь невнятней, тем заветней?
Что слова? И те — не лучше тех:
те — признанье, эти — утешенье…
А молчанье — слов превыше всех
в день беды и в день поминовенья.
Время, защити, обереги
от пустот и от игры словами,
научи соизмерять шаги
со своими быстрыми шагами!
Что клубится там, над головой?
А под ноги я взглянуть не смею.
Не слова так властны надо мной —
просто жить, наверно, не умею.
Но ещё не вечер! День как день.
Да прибудет пусть — не убывает!
И уже совсем не удивляет
то, что за моей спиною тень
множество пространств пересекает.
Мифология
Герои — наивны, а боги — глупы,
но делать-то что с этой верою в чудо?
То в меру щедры, то не в меру скупы,
то — едут куда-то, то мчат — ниоткуда.
Я прутик строгал, я отряхивал сад,
картошку варил и читал «Дхаммападду»,
вперёд забегал, озирался назад,
мирился с собою, не знал с собой сладу.
В градирни ночные — с каких Андромед? —
струилась прохлада, и в зарослях ивы
селились пичуги — нигде таких нет! —
но были горласты они и красивы.
Вставал я к летящему саду спиной.
И шли сквозь меня, раздвигая локтями,
с детьми и вещами суровой толпой,
в тяжёлую тьму увязая ногами.
И мать мою гнали в немецкий полон,
горела Украйна и полнилась стоном,
кружились не ангелы — стаи ворон
над Припятью, Неманом, Волгою, Доном.
И вновь обращался я к саду в слезах,
и снова весь мир я держал на ладонях,
но, как наважденье, стояли в глазах
солдаты, руины и с хлоркой вагоны.
Я всю мифологию знал назубок,
богов и героев великие битвы,
но что мне затверженный этот урок —
я сам очевидец великих событий!
Но если б не знал — я бы умер скорей!
Неужто преданья о звёздах и птицах —
метафоры лишь о деяньях людей,
лишь память об их бронзовеющих лицах?
Недалеко от рая
На суржике, то бишь на дивной смеси
хохляцких и кацапских слов и фраз,
чирикать начинала…
Чудный час!
К восторгу нашему,
любителей инверсий,
загадок, крестословиц и шарад…
Нам, детям, и просить не надо — в лад
сама вдруг заворкует, запоёт:
понятно всё, и всё наоборот —
и буквы кувырком, как акробаты,
и речь — то в рост, то как трава примята.
Слова — то шествуют в обнимку, словно братья,
а то порознь стоят, как на горе распятья.
Ах, бабушка Галина Беднякова,
что видела и знала ты такого,
что я хотел и не сумел спросить?..
Вот жить как спрашивал…
— Та надо, Юрка, жить…
Ещё вот спрашивал: «В войну варила мыло?
А из чего?» — «Та из того, шо было.
И тямы не было ту мутоту варить».
И мы смеялись: «Ну и пошутила!»
Твой абрикос над хаткою белёной
растёт ли ввысь? Пумпяночки цветут
в златых венцах? А вишни? А зелёный
плющ у забора?.. Там не так, как тут?
Не там же три войны и два голодомора?
Не там сиротство, смерть, беда разора?
Не там у горла — полицая нож…
Не там же, нет, где ныне ты живёшь?
Так много слов ты унесла с собой,
как ветром пуха из херсонских плавней
протокой тихой над лихой водой —
рябь терний горьких, детских упований…
Но слова главного, завета дорогого
не вспомнить мне, да и сестра забыла,
хотя бабуля Галя Беднякова
об этом только нам и говорила,
прижав к себе, как бы оберегая
от ляд земных недалеко от рая.
Затмение
Вот слетаются черные, злые
в рощу птицы на зимний ночлег,
накренив свои клювы большие,
мумие осыпая на снег.
На ветвях, в волчью сгрудившись стаю,
спят — и видят горбатые сны,
как они до весны улетают
из заснеженной бедной страны,
как они дружным клином взмывают —
мощи сколько в размахе их крыл!
И каким разноцветьем сияют
оперенья средь южных светил!..
Знаю я — есть волшебные птицы:
Сирин, Феникс, Кетцаль или Рух…
А воронам лишь тьма может сниться,
как, допустим, что сон голубицы —
только света охапка да пух.
Это мне снится хищный их клёкот.
Это мой полуночный кошмар,
где свирепые птицы Хичкока
тащат плоть из хибар и кошар,
где я сам — горсть культей меж лопаток, —
впившись в страшный обрубок жены:
Иоаннова бреда придаток,
от надлобной, пробитой до пяток,
весь —
предчувствье гражданской войны!
Это я вижу неба громады,
рдяный бельм, извергающий свет,
и чудовищные армады
вниз летящих кровавых комет.
Вижу зарево дальних пожарищ,
скоп людей у клубящихся бездн,
смрад чумных скотобоен и кладбищ
осквернённых —
столбом до небес!
О, Господь,
что за сны ты даруешь?
Или только ко мне так жесток?
Ты цветными мелками рисуешь
озаренья…
Крошится мелок —
эту пыль Ты с перстов своих сдунешь
и стряхнёшь с полотняных порток.
Утром я просыпаюсь от гвалта
за ночь вскормленных тьмою ворон.
От декабрьских метелей до марта
жизнь на две половины разъята:
явь — чудовищ рождает,
а сон —
за затменье ума
лишь расплата.
Праздник
А. Аханову
Средь серебристых водомётов
и шаровидных облаков
мир от детей галдящих — розов,
от взмывших голубей — лилов.
Когда на пляже водный праздник
и танцы в клубе речников,
красивая, как тульский пряник,
афиша выставки цветов
плывёт над книжною палаткой,
над стендами ВДНХ,
над показательною грядкой
к воздушным сводам цветника.
А с дебаркадера далёко
слыхать, как духовой оркестр
играет марш, и стёкла окон
дрожат во всех домах окрест.
И вот в цветник или на праздник
спешит художник молодой.
Под мышкой у него подрамник,
и жёлтый ящик за спиной.
Он мог бы стать натуралистом
и орнитологом, но он —
школяр, пачкун, любитель свиста,
он птичьим пеньем увлечён.
С натуры птиц он не рисует.
Он прячет в бороду лицо.
Картина называться будет
«Большое птичье-е яйцо».
Вот белый эллипс, фон же — синий…
Расколем скорлупу, но там
нет ничего, что бы картины
смысл объяснить сумело нам.
Куда доходней птиц отлов!
Он взгляд вперяет вверх, на своды,
где эмбрионы облаков
шарообразны,
где заводы
заоблачны
и миллионы
тучелитейных в них цехов.
Когда же в клубе бал в разгаре
и бражники у фонарей
вращаются, как бы в угаре,
а ночь печальней и темней,
в порт входят корабли, из парка
несут букеты мальв и роз,
звучит финал сонаты — ларго —
под рокот говорящих звёзд,
и холст в кладовке начинает
светиться, будто бы экран,
в овале белом оживают
картины дня: цветник, фонтан,
весь радужный… И до рассвета,
как в старом и немом кино,
в коробке душной и без света,
где птичья кружится планета,
дня таинство освещено.
Майские игры
Копытцем детским ранен мох.
Красив обряд игры весенней.
Накладывается первый вдох
на вздох последний.
Кому-то шалости простят.
Он по воде пускал кораблики
и шапочку носил с пером.
Кутята на подстилке спят —
утопят их, и только Шарика
за то, что со звездой над лбом,
оставят.
Спи покуда, маленький!
Оплачешь братиков потом.
Сады снижаются, как лебеди.
Садовник, ох, охочь за девками
побегать! Пчёлы — искры нереста.
Невеста с голыми коленками —
соседа дочь.
Ей в сад чужой ходить не велено,
но девичье кольцо утеряно
в едину ночь.
…Тут лодка ткнулась в бережок.
А темь — зубами впору клацать!
Фыр-р-р — парочка из-под сапог
лет по пятнадцать…
Ай-ай!
Пойди-ка их поймай!
Ещё по молодости лет
прощала молодость ошибки.
Он отыскал в траве свой след —
след эльфа с очертаньем скрипки.
Слыхали? По земле, сырой
от майских дождиков,
мальчишка пробежал босой,
словарь держа под мышкой Ожегов.
Эй, легче, легче! Хочешь сон,
свой сон перескажу? Ну, ладно же!
Щекочет девичью ладонь
горсть мокрого лесного ландыша.
Вот так от первомайских дат
аж до Купалы дни раскрашивал
в цвета любви и у девчат
«Вы замужем?» — наивно спрашивал.
— Не май ли вы?
— Не май.
— А вы?
— Я — май. Пойди меня поймай!
Всё, что задумали, случится…
Приснится вам обрыв реки,
рассвета розовые птицы,
заката красные быки.
Вы лишь весной не виноваты
ни в чём.
Щенок за ним бежал,
и над его челом покатым
сиял кристалл голубоватый
и путь весенний освещал.
Город
Полуподземный, полувоздушный,
между великой рекою и топью
город как часть заселённая суши —
Азии, глазом косящей в Европу.
Здесь по татарским проулкам слободки
крутит песок и цементную пудру,
шабрит бока перевёрнутой лодки,
груды листвы наметает повсюду.
Здесь в новолунье шалеют собаки,
голуби щебень фарфоровый в горле
нежно полощут, небесные знаки
падают наземь кристаллами соли.
Сносит мазутные пятна к Казани,
и в базиликах подводного царства
стаи крылатых прозрачных созданий
метят жемчужной икрою пространство.
Здесь ещё воздух гудит опереньем
битвы озёрной, здесь пахнет пожаром,
лечат напасти здесь варварским пеньем,
словом заветным, полынным отваром.
Но протянулись уже эстакады —
архитектура времён безвременья —
сквозь эти улочки, срубы, ограды…
Кризис жилья, дефицит вдохновенья…
Что эта часть заселённая суши,
землеустройство когда, как стихия?
И нерушимое можно разрушить!
Время лихое — и люди лихие.
Есть Города в вечном Поясе Славы.
Этот считался всегда захолустьем.
Вот он — в простой деревянной оправе
между истоком России и устьем.
Только своей стариною и молод
этот ушедший и будущий город
с облаком, некогда званным Успенским,
с белой беседкой, с прудом Пионерским.
Античное
Ну не смеши, какой такой Овидий?
А впрочем, милая, читай себе, резвись…
Вот если б щелкопёр тебя обидел,
ему не дал бы спуску я ни в жисть.
Скрипят качели, лето плодоносит,
но с Понта писем ждать —
весь выбродит фалерн…
Какую музыку любовь твоя привносит
в гармонию давно обжитых сфер?
Гремит ведро,
в расстеленный брезент
ссыпают урожай розовощёкий,
и эта груда яблок — монумент
поэзии Овидия высокой.
И вот уже один стою, — ни зги окрест! —
и, видимо, нелепей нету позы.
И слов яснее — расставанья жест…
Сад пуст,
завершены метаморфозы,
засим не знаю…
Consummatum est.*
_________________
Consummatum est (лат.) — окончено.
Ничевоки
Ничего не знаю — во как! —
о поэтах ничевоках.
Кто такие ничевоки?
Ничего их нет на полке.
Есть там Пушкин.
Ему Дельвиг
одолжил немного денег.
И ушли все эти деньги
на ступицу для телеги,
чтоб уехать мог поэт —
ничевоков там где нет.
Есть там Тютчев,
есть там Фет.
Есть там тучи,
есть там свет.
Есть Некрасов там и Блок,
а над ними только Бог.
Ежли Он с небес подаст —
Будешь, как Владимир Пяст.
Будешь в клетчатых штанах
скрежетать стихи впотьмах.
Наскрежещешь тыщи две —
вот и памятник тебе!
Лучше бы нерукотворный,
чтоб не гадили вороны…
В ледяной каморе жить —
тоже надо заслужить.
Как судьба порой жестока!
Но и Пяст не ничевока!
Даже Бедный и Голодный
тоже, вроде, в своём роде…
Говорят, что Дмитрий Пригов
мог и россыпью, и выпью,
так что зал в восторге прыгал.
За него, пожалуй, выпью!
— Вы о чем всё это? Чо вы!..
Вот трёхтомник Грибачёва,
прикоснитесь к вязи строк:
стиль изящен, смысл глубок!
Как сказал какой-то классик:
«Лучше выдумать не мог!»
Раз профан вы в этом деле,
заходите на неделе,
что-нибудь ещё найду
вам по сердцу и уму.
Уйму всяческой муры
одолел я с той поры.
И сейчас вот кой-кого
я читаю… Ничего…
Краеведение
А. С.
А Кострома плывёт ладьёй
и всё уплыть никак не может
над чуть мерцающей водой,
и ласковой, и осторожной.
Как будто ей не совладать
с архитектурою старинной,
не пошалить с огнём и глиной
и стиль небес не перенять.
Всё зримо и незримо здесь:
царицей оброненный веер,
и церковь — алтарём на север,
и пепла со слезами взвесь.
О, реставраторов труды,
о, краеведов изысканья —
ощупывать веков следы
и эху возвращать звучанье!
Всё по крупице соберёшь,
всё на одной нанижешь нити.
Равно здесь знаний и наитий,
как в первый раз, когда плывёшь
на корабле — всё ждёшь открытий.
* * *
Н. Ионовой
Ну что сказать вам о любви моей?
Когда бы мне взамен ночных прозрений
прибавилось немного ясных дней,
я взял — и написал бы «Жизнь растений».
Как свод законов для цветов и трав,
где рядом с притчей об Иван-да-Марье,
о мать-и-мачехе
есть ряд заветных глав
об их лечебном, молодящем даре.
Я написал бы:
у подножий гор
деревья выше — там ночует эхо,
и корни спят, а кроны — разговор
перемежают плачем или смехом
и день, и ночь, а после ночь и день!
Есть место в ботанической Нагорной,
где сказано: «Дай им плодов и тень,
но повода не дай для думы чёрной,
не дай набросить вервие на ветвь…»
Итак, любовь — она меня сильнее.
И если б не её тепло и свет,
сбирал гербарий бы я весь остаток лет,
сверяя время по часам Линнея.
Филолог
Бывает речь темна, нехороша,
рождённая из детских фобий, снов, наитий…
Невыразима бедная душа,
но сколько таинств в ней и роковых событий!
Перебивать?
Нет —
стойте где стоите!
И всё бессвязнее, мучительней рассказ…
Прошелестев ещё две-три фонемы,
очнётся человек —
зачем сейчас
сей тьмы глотнул, уже в который раз
коснувшись неподвластной смертным темы?
И вот его уже осмыслен взор,
слова вкусны, жест точен и уместен.
С какими силами тягался?
«Экий вздор!
Давайте наш продолжим разговор».
Он как филолог хорошо известен:
цитат — чуть-чуть —
не дай бог перебор!
А выпив, плачет
от цыганских песен.
Преображение
Светлее, чем у всех, не твой наряд.
Но отчего мы тянемся друг к другу,
как дети, встав на цыпочки, глядят
за изгородь на чудную зверюгу —
вот-вот проснётся…
Бледной полуправдой
картавят рот — весь мир прибрать хотят
кошмары босховы и дьяволовы слуги.
Тебе дана волшебная ретина,
но способ мыслить твой — увы! — рутинный.
Откуда знать тебе, что образ — лишь предлог
к прогулке дальней без путей-дорог.
Но ты чертей и рыб в альбом рисуешь
и оживлять без знахаря рискуешь.
Зришь воды, вертограды, свод небес.
Земля вращается в семи цветных пределах —
не отвести от сущего очес!
В лучах фотонных, вверх скользящих стелах
мир триумфален,
и мильон чудес
ты наблюдаешь майскою порою.
Но август стороной летит другою…
И вдруг такою озарит тоскою!
Слезами обольюсь над книгою складской:
какой реестр!
какая партитура!
И в каждой строчке внятная цезура.
Прелюды накладных!
Расходных ордеров,
как фуги Баха, стройные цифири…
Глаз ревизора — он нежней сапфира,
и оттого так кладовщик суров.
Культур слои — как старые обои:
пером царапнешь — вспыхнет голубое…
Мне это время любо и любое,
но в списках значусь тех же, что и ты.
Мы в корень зрим, но разве мы кроты?
Всем места в кронах хватит для скворешен!
Генеалогия пусть на одних ветвях,
а на других уже полно черешен.
И среди ангелов грязнуль нет и нерях:
в слюнявчиках, хрустящих от крахмала,
они летят —
ах, это голуби летят! —
и им, кажись, до нас и дела мало.
Но для любви, для утоленья жажды
неужто времени не хватит вам однажды
и наши дни без пользы прогорят?
А я уже и лавр припас на всякий случай,
и пузырёк с эссенцией летучей,
и Улугбека звёздные таблицы,
и кость грудную Азраила-птицы.
Но нам уже пора с тобой проститься…
Твой лёгкий шаг люблю,
и каждый взгляд, и жест…
Пусть это мне когда-нибудь приснится:
любовь моя,
и радуга в ресницах,
и снега за спиной сутулой взвесь…
И всё окрест,
как я того хочу,
преобразится.
Бумажная архитектура
(Фрагмент городской застройки)
Из пробоин в небе — пух и перья:
серафимы, видно, гневят Бога.
За кладбищем Лазаревским — поле,
по полю — железная дорога,
дале лес…
Туда-то и водили
бедолаг весёлые чекисты.
Как небытия остекленевший ужас,
ныне здесь стоят цеха «красилки»…
Далее — бетонные заборы —
к узищу, откуда малолетки
смотрят хищно, как лихие воры,
на творенья пятой пятилетки.
Водокачка, склады, гаражи,
баня и котельная с трубою…
Град родной, железные тяжи
повязали нас одной судьбою.
Если правда, что архитектура —
музыка застывшая,
тем паче
знать хочу, где прячут партитуры
дирижёры типового счастья.
И ещё. О золотом сеченье…
Зодчий Шевелёв глаголет тако:
выверено Богом тело всяко,
всяку телу — с небом сопряженье.
Населённый пункт, как мирозданье,
энтропия где царит, где сущий хаос,
но сейчас я здесь воздвигну зданья:
дом-цветок,
дом-птица,
дом, как парус…
Так куличик из песка дитё,
изготовив, величает замком.
Вот сюда бы ордер на житьё!
Всё отдал бы — ничего не жалко.
И лепил, томясь, в воображенье
солнечные термы и палестры,
оды ар
в о
с к,
где гремят оркестры,
мир из света,
воздуха,
движенья.
А домой окраинами крался,
как подземный житель, тёмным станом,
чтоб никто вовек не догадался,
что зовут меня Огюстом Монферраном.
Воспоминание
Опочка.
Кладбище средь пижмы золотой.
И в это мухоборческое царство,
в здоровье камфарное
пчёл влетает рой,
а я ещё настолько молодой,
что у меня утраты ни одной
и ни к чему любви,
ни сожаленья
нет ни о чём…
А летний вязкий зной
с такою силою смыкается за мной,
и столько веса в нём и напряженья,
что, если бы замедлил я движенье,
вся мировая скорбь с воздушною волной
вошла б мне в душу,
дав ей выраженье.
Рыбак
А. Беляеву
На рубеже тысячелетий
и у слиянья двух веков
поэт забрасывает сети
и ловит стаю облаков.
Ну, Бог с ним! — пусть себе рыбачит,
уж такова его стезя,
а слово — ничего не значит,
но нет его — и жить нельзя.
Как не зови — судьба, дорога…
К местам заветным нет дорог,
и на крючке душа у Бога,
а сердце — божий поплавок.
И если повезёт в уженье,
из тьмы речной, сверкнув, взлетит
не кистеперое творенье,
а то, чему нет выраженья,
мечта ловца и наважденье —
Царь-рыба, что в глубинах спит,
и, словно ангел, в Откровенье
пророческое протрубит.
Приложения
Ольга Гуссаковская. «Образ — лишь предлог…» [*]
С точки зрения человека, чуждого поэзии, сочинять стихи незачем. Ведь любую мысль можно передать в прозе.
Непредсказуемость поэзии на первый взгляд кажется парадоксальной. На деле же парадокса нет: рифма часто предлагает поэту слово, которое не пришло бы ему в голову, руководствуйся он одним здравым смыслом.
У настоящего поэта содержание и форма рождаются одновременно. Они, как хорошие друзья, если и спорят порой, так готовы уступить.
Эти мысли вызвали у меня стихи Юрия Бекишева.
Причудливый и сложный поэтический мир его творчества похож на театр одного актёра, где исполнитель один — и многолик.
Винокуров сказал: «Стихи пишутся где-то между уменьем и неуменьем». Действительно, надо не уметь, чтоб прервать цепь инерции, чтоб прорвались наружу беззащитность, непосредственность, голос жизни. Надо, чтобы каждый слог поэта был связан с психологическим и техническим риском, чтобы, как сказал Бальмонт: «…дрожали ступени под ногой».
Вот так должна дрожать душа читателя, «однодушного» творчеству Юрия Бекишева при чтении его непростых, но собственных (более — ничьих!) стихов.
Да, кто-то споткнётся о поэтические неожиданности самого разного рода, о рифму на грани допустимого, сложную метафору… Так что же?
«На днях я думал, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать», — горько (или кокетливо?) признался однажды Блок.
«Набитосгь» руки — это, слава богу, Юрию Бекишеву пока не грозит, да и грозить вряд ли будет. Ибо он, перефразируя знаменитое высказывание Чехова, может «по капле выдавливать из себя литератора».
При чтении стихов Юрия Бекишева возникает тревожное и необычное ощущение: он — постоянно у Огня, каждую минуту его могут призвать к делу и не должны застать врасплох. Он — поэт. И, как во все времена, он — лилипут, чувствующий себя Гулливером, и только от него одного зависит, чтобы в его дивное «Преображение» поверили остальные люди:
Откуда знать тебе, что образ — лишь предлог
к прогулке дальней без путей-дорог…
Поэзия Юрия Бекишева — пружина, натянутая до предела. Прозаизация, снижение, приближение к жизни — не для него. Хотя «низкое», земное нередко в его поэзии присутствует, но, переплавленное в горниле стиха, имеет уже совсем иное назначение:
Зачем я к небу обращал, лицо?
В компанию, где мат стоял на мате,
попал однажды… Вышел на крыльцо —
и зарыдал, и мой пиджак на вате
огнём не вспыхнул…
Очень характерна для его творчества игра «низким» и «высоким», как чёрными и белыми. Совмещение того и другого. Анод и катод. Между ними — ток поэзии.
Невольно при чтении Юрия Бекишева вспомнилось и загадочное пушкинское: «Поэзия должна быть, прости господи, глуповатой». Думаю, что Пушкин имел в виду «глуповатость», которая обычно присуща мудрецу, вернее, то, что кажется изворотливым и сообразительным обывателям глуповатостью. И в этом смысле «глуповатость» поэтическая — обязательна. «Дурацкое званье поэта я не отдам никому…» — писал Н. Асеев.
Юрий Бекишев ныряет в начало стихотворения слепо, безотчётно, как глупец, чтобы в конце его вынырнуть мудрецом.
Трудная, невыполнимая у меня задача: на основании отдельных прочитанных стихотворений найти основной принцип поэта, обнаружить внутренние связи, таящиеся где-то под внешней поверхностью стихотворения. Но я пишу только вступительное слово к антологии Юрия Бекишева.
Пусть чудо общения с поэтом останется читателю.
Опубликовано: Северная правда. 1988. 30 апр.
(Рубрика «Антология костромской поэзии:
Юрий Вениаминович Бекишев»)
[*] Заголовок дан при интернет-публикации.
Юрий Бекишев. Сны золотые
Фрагмент арт-видеожурнала «Пегас»
ОТРК «Русь», 2000