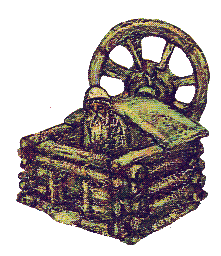Лучше и лучше стал рисовать Ефимко, но всё же картинки свои не очень-то кому показывал. В своё умение он верил всё ещё не слишком, боялся, как бы кто вдруг рисунки не осмеял. А больше всего он отца стеснялся.
Отец у Ефимки был не так чтобы строг, балагур не хуже дедушки, но очень и очень работящий. Это лишь вечером он шутки-прибаутки вместе со всеми плетёт, а как утро настанет, так мигом и за дела.
Ещё за окошками потёмки, а он уж всех торопит:
— Поднимайтесь! Кто встанет пораньше, тот и шагнёт подальше.
С дедушкой договаривается, что вот пора бы нынче же осмотреть в сарае соху да бороны и начинать их помаленьку чинить, готовить к новой весне. Матери с бабушкой наказывает поскорее управиться со стряпнёй на кухне да со скотиной во дворе и приниматься перебирать в голбце картошку.
Сам же лишь отзавтракает, так шапку на голову, полушубок на плечи и — за дверь.
По избе от порога ещё морозный пар катится, а с улицы уже слыхать, как отец выводит из конюшни Чуйка, запрягает в розвальни, готовится везти на мельницу рожь.
В общем, вся честняковская семья с утра до вечера в работе, лишь малышу Ефимке да ещё младшим сестрёнкам отец пока ничего не задаёт.
Но Ефимко и сам уже видит: вся деревенская жизнь держится на собственных руках. Поле твоё никто за тебя не вспашет, никто за тебя не засеет, урожай не соберёт, домой не привезёт, и даже тёплый, сытный каравай надо испечь самим вот здесь, в своей печке. И всякую работу отец, мать, бабушка, дедушка делают изо дня в день именно ради этого каравая. А вот рисунки рисовать хотя и приятно, да Ефимко боится, как бы отец или дедушка не сказали: «Нашёл, паря, заделье! В крестьянстве оно для чего? Какая в нём польза? Брось… Наша главная забота — хлеб растить да людей кормить, ну и себя, конечно, тоже. А рисование — пустяки!»
И вот, наверное, мало-помалу и забросил бы рисовать Ефимко, стал бы потом, когда вырос, только крестьянским трудом людям служить, если бы не бабушка и если бы опять не счастливый случай.
Бабушка-то Прасковья с Ефимкой почаще других вместе бывала. Топочет она однажды по избе, торопится, то поросёнку, то овцам, то корове пойло в бадейках таскает, то разливает по кринкам парное молоко, а сама на внука посматривает и думает: «Что это он у меня, как подменённый? Раньше не удержать, с утра на улицу рвётся, а теперь всё сидит у окошечка, всё что-то на подоконнике, на бумажке черкает карандашиком и совсем притих… Дай погляжу!»
А как глянула, так и руками всплеснула: — Оё-ёй! Смотри-ка, у Ефимушки-то на бумаге что… И домики с крылечками, и человечки с гармошками, и снежинки-звёздочки с неба сыплются, и цветочки-лепесточки прямо во снегах цветут! Совсем всё как в той твоей, Ефимушко, сказке, которую ты нам вчера вечером рассказывал, и сразу видно, что это какой-то праздник… Мне даже самой стало весело! Не-ет, внученек дорогой, картинку свою не прячь, не прячь; рисуй, милый, рисуй. Дар этот твой — настоящий. От него и другим людям будет радостно, вот увидишь! Да только Ефимко и тут поверил не вдруг.